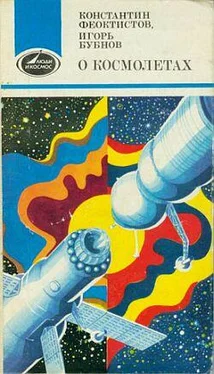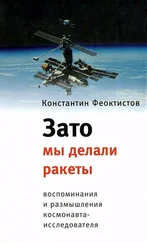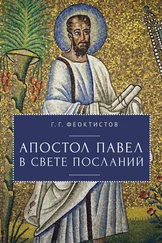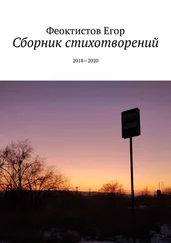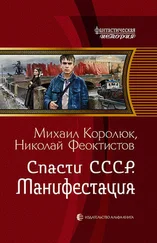Почему? Ответить на этот вопрос косвенным образом должна была бы наша книга. Дело в том, что все оказалось значительно сложнее. Несмотря на огромный рост с тех пор технических возможностей, серьезное продвижение науки и большой опыт космических полетов. Сложнее и в техническом отношении, и с точки зрения динамики возможностей и потребностей общества.
Так, может быть, и теперь мы зря так часто думаем и говорим о будущем космонавтики? Пройдет лет 20, и, быть может, все наши нынешние представления не оправдаются? Думается, все же не зря. Во-первых, заглядывая вперед, мы научились сдержанности, реализму. Во-вторых — задаваться периодически вопросами будущего — не своего собственного, личного, а общего или хотя бы той области, в которой мы работаем, — совершенно необходимо для трезвой оценки сегодняшних дел и тех целей, к которым идем.
Говорят, сегодня в космонавтике уже не так интересно. Почти все, что можно было сделать «впервые», вроде бы уже сделано. Самое удивительное либо уже далеко позади, либо далеко впереди. Какое же это заблуждение! Задачи — и сегодняшние, и завтрашние, необычайно интересные, по-прежнему стоят перед создателями космической техники. Интересные своей новизной и своей сложностью. Сложностью иногда до головоломности…
Есть идея построить на орбитах огромные радиотелескопы… Вполне реальная вещь… С ними наверняка будут открыть; совершенно новые, неведомые нам пока явления во вселенной… Быть может, они помогут найти следы деятельности других разумных существ в космосе или засекут сигналы других цивилизаций. Как хотелось бы, чтобы мы не оказались в этом мире одни… Но как эти телескопы там, на орбите, собрать, ведь нужна высочайшая точность?.. Вопросы, вопросы… Ведь полетам в космос лишь 20 лет. И по существу, только все начинается…
Сегодня мне так же, как и всегда, интересно ездить к себе на работу. Так же хочется думать, искать, считать, спорить с коллегами. Так же радостно мне видеть результаты нашей работы там, на орбите. И так же важно слышать в эфире доклады космонавтов о том, что что-то, сделанное нами, работает хорошо, а что-то не так, как хотелось бы. Значит, надо учить это что-то работать хорошо…
И. Бубнов. Очень мне хотелось, чтобы в этой книге было бы не только о космических кораблях, но чтобы был в ней еще живой человек. Чтобы представился читателю во всей конкретности герой книги, мой соавтор К. П. Феоктистов.
Нашему знакомству более семи лет. И еще много лет до того мне доводилось встречаться с Феоктистовым на разных совещаниях, заседаниях, симпозиумах.
Первое, что бросается в глаза при общении с ним, — неожиданное сочетание крайней сдержанности с мягкостью. Сдержан он не в смысле отсутствия проявления темперамента, а от какой-то постоянной внутренней сосредоточенности.
Говорит ли, слушает ли он — идет в нем, кажется, непрерывная умственная работа. Будто бы мозг его настроен на какую-то внутреннюю волну, хотя при этом от разговора не отключается он ни на миг. Но неполной загрузки мозг его не терпит, поэтому в зависимости от сложности вопроса и привычности требуемых от него суждений мысль его то вплотную сближается с предметом разговора, то слегка отдаляется от него. При этом слушает он внимательно, глядя на собеседника чуть исподлобья (насколько позволяют очки), прямо в глаза.
К собеседнику он не приспосабливается и в задушевность, в «своего» не играет. Речь его негромка, не сверкает особым разнообразием интонаций и форм, но точна по смыслу. Мысль собеседника ловит сразу, и ни в какого рода повторах и вариациях он не нуждается. На юмор реагирует мгновенно, но коротко.
Ходят слухи о его упрямстве. Действительно, возникшее в нем суждение сдвинуть тут же с места, сразу никакими доводами практически невозможно. Однако неуступчивость его не из желания непременно остаться правым, а потому, что все ваши контраргументы — сколько их ни выдвигай — он уже учел.
Потому и сам убеждает с решимостью, не предполагающей существования в природе сколько-нибудь веских возражений. Очень популярны у него фразы: «Несерьезно!», «Смешно!», «Нет проблемы!» Может вдруг вскочить с кресла: «Все! Тут не о чем разговаривать!» (или: «Не надо меня агитировать!»). Сам, впрочем, убежден, что с ним спорить можно и что вообще-то он терпим. Спорить, конечно, можно, но позиции, аргументацию при этом надо иметь очень прочные.
Очевидно в нем стремление, выражаясь деловым языком, в любой ситуации получить максимальный результат исходя из реальных условий при минимальной затрате физических и эмоциональных средств и времени.
Читать дальше