— Что я еще могу для вас сделать?
На этом заканчивается одна из легенд поселка, которыми он за шестьдесят лет существования оброс с ног до головы.
На период строительства в поселке появились десятки мастеров-работяг, часть которых даже осталась в Красной Пахре и после окончания основных строек: работы для них хватало. Легендарной личностью был Коля-жестянщик по фамилии Луковкин, иначе Колька Тепленький, прозванный так из-за своей пагубной привычки. Он был маленьким, сухоньким, вечно навеселе, но виртуозным мастером. Основной его специализацией были колпаки на трубы, чтобы в них не затекала дождевая вода и не валился снег. Довольно сложные развертки Коля не вычерчивал, а резал прямо по металлу на глаз. Потом сгибал в нужных местах, фиксировал молотком, и водружал готовый колпак на трубу. Тот сидел как влитой. Иногда Коля давал волю своей фантазии, например, на даче у гроссмейстера Котова колпак был украшен шахматным конем.
Как-то раз Тепленький появился у Сергея Петровича Антонова с жалобой:
— Беда, Петрович, беда!
— Что такое, Коля?
— Дружки в ухо дали!
— Больно?
— Не, не больно…
— А что?
— Так, ребята издеваются. Говорят в правое ухо, которым я не слышу!
— А что говорят?
— Спрашивают, не хочу ли я выпить…
Антонову осталось только искренне посочувствовать Тепленькому.
В те годы городские жители страны Советов были лишены, по меньшей мере, двух естественных человеческих достояний: собственности вообще и земли в частности. Нужно вспомнить, что в трудные послевоенные годы у части жителей поселка не было отдельной квартиры в Москве, только комната-две в коммунальной квартире. А здесь… Раздолье, много больших комнат на двух этажах, участок, заросший лесом, из-за чего летом даже соседские дачи не видно. Делай, что хочешь. Отделывай свое жилище в соответствии со своими вкусами и финансовыми возможностями, сажай на участке цветы, яблони и вишни, кусты смородины и крыжовника, малины, выращивай клубнику и огурцы, картошку, в конце концов. Жителями поселка быстро овладевало всепоглощающее чувство собственности. Они в одночасье становились хозяевами своей жизни. Могли ложиться спать, когда хотели, а вставать после полудня. Но большинство из них обладало такой внутренней организацией и дисциплиной, что с раннего утра садились за свои письменные столы, отрываясь от них только на завтрак и обед.
Тяга к земле у части писателей также проявилась очень остро. Большинство высадили садовые деревья, кусты смородины, крыжовника и малины, разбили небольшие огороды. Но находились отдельные жители поселка, которые занимались цветоводством почти профессионально. Виктор Розов, Олег Писаржевский, жены Михаила Ромма и Ильи Кремлева выращивали красивейшие цветы, приглашали к себе на участок соседей, чтобы те полюбовались их цветочными достижениями. Писаржевский даже получил от Правления ДСК разрешение на строительство на своем участке оранжереи в обмен на обещание помочь в тонком деле цветоводства всем желающим жителям поселка. Розы, тюльпаны, нарциссы, пионы всех оттенков, флоксы, анютины глазки, гиацинты, настурции и маргаритки и, в особенности, гладиолусы от белых до почти черных стали визитной карточкой наиболее продвинутых в цветочном отношении участков.
Одновременно с переездом в новые шикарные дачи члены кооператива освободили свои времянки. В те времена местная власть строго контролировала количество строений на участке. На одном участке должно было находиться одно жилое помещение. Можно было надеяться получить разрешение на строительство гаража, но не более того. Что делать с построенными времянками? Сносить? Творческая писательская мысль, умноженная на консультации юристов и специалистов по кооперативам, нашла выход из сложившегося положения. Что нужно писателю для успешной и безотрывной работы? Правильно, библиотека. Там можно расположить справочники и энциклопедии, подшивки газет и журналов, книги классиков и конкурентов, черновики собственных рукописей. Помещение нежилое, но важное, просто необходимое для писателей. Композиторы и художники могли хранить там свои ноты и картины, опять-таки все обосновано. Короче говоря, все дружно оформили свои времянки как библиотеки или архивы.
Однако становилось обидно, что вполне приличное жилое помещение простаивало. Сейчас уже трудно установить, кто из членов кооператива стал первым сдавать времянку под жилье другим семьям. Как правило, вначале это были близкие хозяину люди, друзья, причем лица творческих профессий. Например, писатель Климентий Минц сдал свою времянку главному режиссеру Московского мюзик-холла Александру Конникову, а писатель Жданов — писателю Виктору Драгунскому, автору «Денискиных рассказов» и отцу означенного Дениски. Отдел контроля за ДСК и ЖСК Мосжилуправления был успокоен соответствующими ходатайствами Правления. В дальнейшем времянки у членов кооператива снимали и далекие от культуры и искусства лица.
Читать дальше
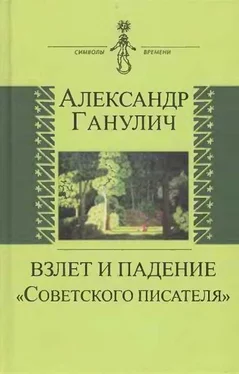
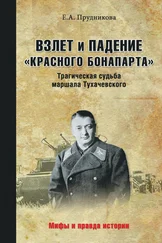
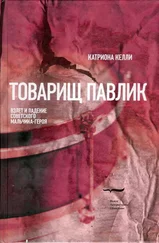

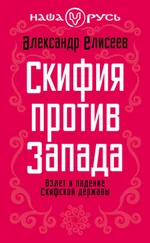
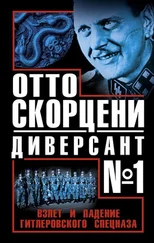
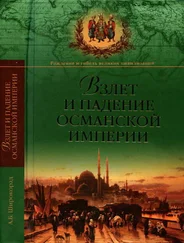
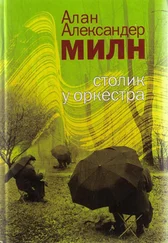
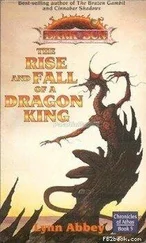
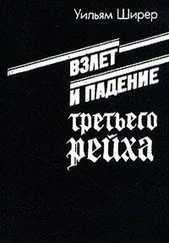

Конечно, есть и субъективные моменты, как без них. Например:
"В общении с людьми, соседями Твардовский был крайне противоречив. Считал вторым сортом тех, в которых не видел писательского или поэтического дара. Например, со своим соседом Иосифом Диком общался, был даже на «ты», но никогда не говорил с ним о литературе."
Никогда... Ну, так случилось, как сын Иосифа Дика, был свидетелем частых их встреч у нас на даче. Они были знакомы давно, поэтому и на "ты".
О чем они говорили или не говорили... подслушки у нас не стояло, это все домыслы. Достаточно сказать, что Александр Трифонович читал у нас на веранде рукописи новых произведений. Читал и свеженаписанного "Теркина на том свете".
Отец, когда узнал, что Твардовский пришёл с рукописью, с его разрешения пригласил на читку соседа и друга Юрия Трифонова. Они вдвоём были первыми, кто слушал произведение (ну, или одними из первых)
Это было все при мне, о литературе они ещё как говорили.
Отец и Юрий Трифонов вообще друзья со студенческой скамьи Литературного института. Семинары, обсуждения, лучшие преподы, цвет молодых и пожилых писателей... - литература это их родное.
Насчёт писательского дара, тоже всё субьективно... время все расставит по своим местам.
В целом, привет Саня! Молодец!