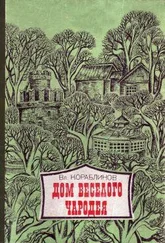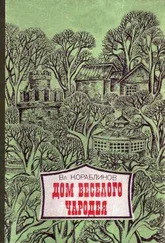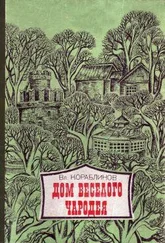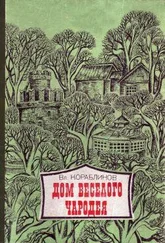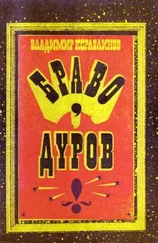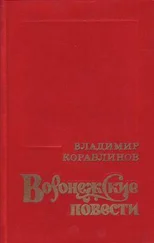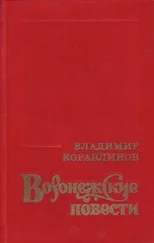В эту встречу, не сговариваясь, ни одним словом не подчеркнув, они как-то незаметно перешли на «ты».
Никитин прочел последнее, что написал. Стихи восхитили Ивана Иваныча, особенно «Под большим шатром голубых небес» и «Суровый холод жизни строгой». Но в пьесе «Развалины» одну лишь звучность похвалил, а колоннады и письмена фантастические отверг и сказал:
– Нет, Иван! Нет и нет. Прости, но это уже не Никитин.
Записи Ардальона Девицкого
О колыбель моих первоначальных дней,
Невинности моей и юности обитель!
Г. Державин
Тетенька Юлия Николавна переселилась в деревню воспитывать близнецов Феденьку и Никошу, препоручив Ардальона заботам давней приятельницы своей, Воскресенской просвирни Пашеньки. Эта Пашенька была немолода и, так же, как и тетенька, девствовала, но удивительно рознились они: Юлию Николавну девство сделало скупою на чувства, сдержанной, суховатой; женское как бы все вытравилось в ней; и внешность – одежда, манеры – все решительно выдавало в ней вековушу. Пашенька же была прямой противоположностью Юлии Николавны, и это, может быть, их и сблизило и устроило их дружбу на редкость прочной. Пашенька, то есть Прасковья Алексевна, несмотря на свои пятьдесят лет, выглядела очень молодо, ей не более сорока давали. Была она невелика ростом, характера веселого, но в то же время и чувствительного; в любой работе ловка и шустра, вечно напевала что-то, какие-то старые, позабытые романсы.
Квартировала она в том же доме, что и тетенька, возле воскресенской церкви, снимала комнату с кухонькой. И хотя квартирка была крохотная, прямо-таки игрушечная, взгляду из окон открывался такой простор бескрайний, что дух захватывало: заречье, поля, туманная голубизна горизонта; а прямо от дома, вниз, к реке, – железными, черепичными, тесовыми, соломенными, камышовыми уступами крыш, беспорядочным обвальным потоком с глинистых крутых бугров низвергался город Воронеж с его садами, садочками, двориками, церквухами, деревянными нужниками и голубятнями.
Ардальону нравились эти сбегавшие к реке кручи и та неразбериха капризно, привольно раскиданных по ним уличек, переулков и тупичков, та веселая, пестрая нагроможденность домишек, которая делала прибрежную часть города особенно живописной. А дальше – внизу – причудливые петли синих речных излучин, еще дальше – голубые развилки многочисленных стариц, зеркальные осколки небольших озер… И совсем уж далеко – поля, поля, поля, уходящие бог знает в какие дали России, во глубину ее, за нежно, дымчато туманящийся горизонт.
Но какой противоположностью ясному, веселому ландшафту чернела на острове мрачная громада заброшенного, мертвого петровского цейхгауза, «чихауза», как называли его прибрежные жители! Какой суровой, воинственной стариной веяло от этого молчаливого, забытого людьми каменного строения славных времен!
Пашенька сказывала, что там, на острову, – нехорошее, недоброе место и что всем известно, что там водится. «Но что же? Что?» – мертвея от страха, опросил Ардальон. «А то, – понизив голос, сказала Пашенька, – то, дружок, что не всякий туда ночью и пойти-то насмелится. Один, сказывают, такой-то ухарь пошел, да и языка лишился…» – «Как – языка?» – «А очень просто, мой друг: после того немтырем сделался». – «Да отчего же?» – «Ах, вот привязался! – с досадой сказала Пашенька. – Ночь на дворе, как можно этакие разговоры разговаривать! Неужто не понимаешь?»
Ардальон понимал. Ему шел пятнадцатый год, баллады Жуковского были читаны и переписаны в тетрадь.
Он до страсти любил все относящееся к писанию – бумагу, чернила, перья. Бумагу особенно, но она стоила денег. И, как марал ее изрядно, то даваемого из дому не хватало, приходилось просить сверх.
Тетрадей было заведено три: в одну переписывались полюбившиеся стихи разных авторов, в другую – собственные робкие опыты, в третью… Третья называлась «Записи событий житейских и размышления». Это был дневник.
Не странная ли причуда пятнадцатилетнего юнца – оградиться от легкого, еще наполовину детского мира и уйти в созерцание внутреннего своего, никому не видимого, но уже серьезного, чуть ли не взрослого бытия? Не была ли эта затея просто игрой, наивным ребяческим подражанием известным литературным образцам? Конечно. В Ардальоновых «Записях» легко, например, угадывался грациозный, несколько жеманный слог «Писем русского путешественника», что-то, разумеется, выглядело как литературная забава, но главным-то было все-таки искреннее чувство, собственная мысль, потребность правдиво сказать о себе и окружающей жизни.
Читать дальше