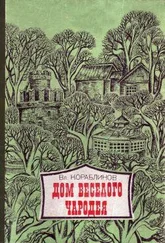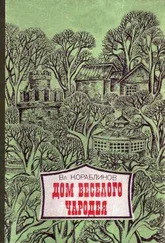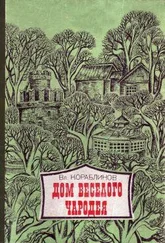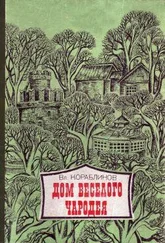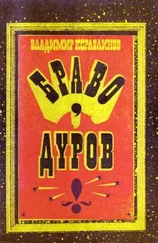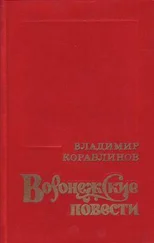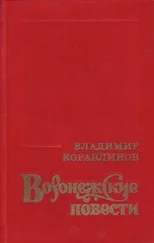Подгоренский шорник Рузанов – тот прямо говорил, что настоящий царский указ господа спрятали, прочитали подложный.
– Тут главная статья, ребята, не поддаваться! – кричал он. – Раз слобода – какая же может быть повинность? Брехня! Право слово, брехня!
Но в общем городская жизнь проходила по-прежнему: чиновники, привыкая к нововведенным металлическим перьям, строчили входящие и исходящие; в обычные часы открывались и закрывались лавки; обыватели с тазами и вениками брели в сидельниковские бани, говели, пили водку, по случаю великого поста закусывая соленым сазаном, особенно уважая в нем легкий душок. Губернская типография печатала тысячу экземпляров манифеста; расклейщики на заборах и тумбах лепили еще пахнущие краской листы, дабы каждый воронежский житель мог прочесть самолично и обуздать свои неуместные фантазии и брожение ума.
Все шло, как и десять и двадцать лет хаживало.
И вдруг гостиницы Шванвича, Колыбихина, братьев Абрамовых и даже монастырские подворья начали наполняться перепуганными помещиками, прискакавшими из своих деревень с чадами и домочадцами; тревожное словечко «бунт» замелькало в гостиных и ресторациях.
Приехавший из Задонского уезда помещик Бланк рассказывал, что мужики, вырвав у старосты бороду, заперли его в «холодную» и, подступая к барскому дому, требовали, чтоб им показали подлинный царский указ. «Ту бумажку, что поп в церкви читал, – кричали они господину Бланку, – ты себе возьми, подотрись! А нам указ подавай!
Валуйская помещица госпожа Дрексель, та и вовсе уж, приехав ни жива ни мертва, такие ужасы рассказывала, что волосы дыбом становились: поймав приказчика, купали его на аркане в проруби, сожгли амбары, порубили в саду липовые деревья…
И многие другие приезжали, и все привозили одни и те же новости: мужики бунтуют, не исполняют барщину, жгут усадьбы, требуют настоящего царского указа. Этих насмерть перепуганных беженцев возили из дома в дом, поили и кормили, заставляли в сотый раз пересказывать про деревенские ужасы.
Тот барин, что еще так недавно витийствовал перед Иваном Савичем насчет «эгалите, фратерните», идеалов и дерзаний, на сей раз настроен был куда как воинственно: брызжа слюной и размахивая руками, он на чем свет стоит клял мужиков, и реформу, и тех, кто ее выдумал.
– Звери! Скоты! – восклицал он, колотя конопатым кулаком по ореховому прилавку так, что глиняные фигурки подскакивали. – Я ли им отцом родным не был… Вы ведь знаете мои воззрения? Можете представить, все стекла в доме побили, борзых вешали в саду! Пришлось тайно, ночью, бежать… И что там сейчас делается – страшно вообразить… Не-ет, батенька, нам не свобода, нам дубинка хорошая нужна, вот как-с!
Иван Савич каждый день выслушивал подобные жалобы и причитания. То, что происходило в деревне, для него не было неожиданностью. Он слишком хорошо знал деревенскую жизнь и ни минуты не сомневался, что та «свобода», которая была объявлена в манифесте, ничего иного достигнуть не могла. Ему жалки, смешны и отвратительны были все эти разъяренные, испуганные, плачущие и проклинающие господа; всею душой он понимал всколыхнувшегося мужика, но с каждым днем, с каждым новым известием о деревенских беспорядках им все сильней и сильней овладевала тревога за Натали: что с ней? Какие события происходят на матвеевском хуторе? Он расспрашивал заходивших в магазин помещиков: не знают ли, что делается в Землянском уезде? Никто ничего определенного не мог сказать. Наконец появился сосед Матвеевых, некто Ширкевич, и сказал, что, «благодаря бога, в ихних палестинах пока все спокойно».
Иван Савич воспользовался случаем и передал с ним письмецо к Натали, в котором, между прочим, в самом конце очень поэтично написал о жаворонке, его простой, прелестной песенке, веселой и в то же время чуточку грустной, несмотря на радостную обстановку весны. «О, мне знакома эта песня, – писал он, – и я не могу ее не любить! Простите, что я заговорился. Мне, знаете ли, сделалось отчего-то немножко скучно, – вот я и повел с Вами речь».
Господин Ширкевич спешил с отъездом, письмо было написано наспех. Если бы Иван Савич перед тем, как запечатать его в конверт, внимательно перечитал написанное, он обязательно зачеркнул бы последнюю фразу: «мне сделалось скучно» и т. д. Какая женщина простила бы этакое признание!
И Натали, разумеется, не простила.
Через неделю в магазине появился посланец с письмом от Натали.
– А! – радостно воскликнул Никитин. – Забыли, видно, дорогу к нам из Высокого!
Читать дальше