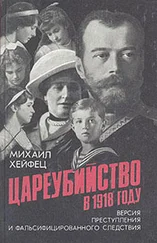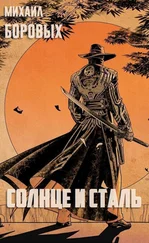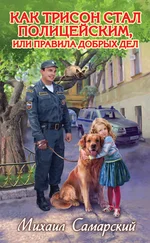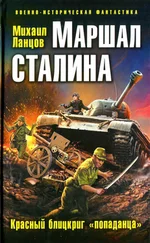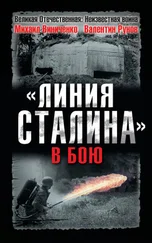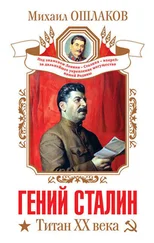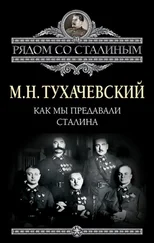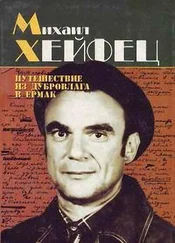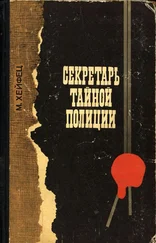У матери денег на взятку не было, а он всё-таки чудом пробился в класс. И — внимание, внимание! — сам бросил гимназию. Почему? «Я клянусь, — писал он через тридцать лет, — я не знаю. Это случилось потому что потому». Встал и ушёл (как полвека спустя — Иосиф Бродский, но уже в советской школе!). Всего за полтора года до выпускных экзаменов. И гордился этим поступком — всю жизнь. Потому что, окончив гимназию, объяснял потом, он бы непременно поступил в университет, закончив университет, стал бы адвокатом. Началась бы война — не пошёл натурально добровольцем в армию, ведь у адвоката большая и выгодная клиентура… В итоге большевики, приняв во внимание «реакционные взгляды», одарили бы Зеэва пулей и ямой — без гроба и могильной плиты… «Я неоднократно подумывал написать научный трактат «Как важно уметь совершать глупые поступки». Самое невероятное, что он уговорил мать согласиться с безумным для еврейского мальчика поступком!
Правда, тогда, в предпоследнем классе, он превосходно владел не только русским языком и знал чуть не наизусть всю классику российской словесности. Старшая сестра выучила брата говорить и читать по-английски, кузен — по-французски: читать любимые приключенческие книги. Одноклассник научил польскому (Зеэв хотел читать Мицкевича в оригинале), сам он — по самоучителю — выучил испанский. Слушая разговоры матери с родней, освоил (и, к слову, очень недурно) идиш, а учитель (знаменитый Равницкий) дал ему первые уроки иврита. Так что к семнадцати годам юноша владел семью языками. (Но, заметьте, не латынью и не эллинским, которые преподавали ему в гимназии…)
С тринадцати лет мальчик стал рассылать по редакциям свои переводы и оригинальные тексты. Среди переводов, к слову, найдём знаменитый до сих пор в России текст «Ворона» Эдгара По. Бросив гимназию, уехал за границу, где ему разрешили поступить в университет без аттестата зрелости, и отправился туда не нахлебником матери или старшей сестры, а полноценным работником: «Одесский листок» взял семнадцатилетнего журналиста на жалованье — иностранным корреспондентом. Редактор предложил на выбор Бёрн или Рим (там не было корреспондентов), так что Жаботинский выбрал место учёбы, исходя из предписаний первого работодателя.
В Риме в его душе воспылала страсть ко всему итальянскому, особенно к языку, литературе и социальным наукам (Жаботинский учился у великих звезд — Энрико Ферри и Антонио Лабриолы). Забавный эпизод припомнил в книге Шмуэль Кац: году, примерно, в 1938-м, на приеме в одной из европейских столиц после выступления Жабо подошёл к нему итальянский посол поздравить с успехом… Естественно, поздравлял на английском. Тот ответил по-итальянски. «Как я ошибся! — воскликнул дипломат. — Мне же сказали, что вы русский. Никто не предупредил, что вы итальянец!» («Римляне думают, что я из Милана, — шутил потом Жабо, — а сицилийцы принимают за римлянина»).
И почти сразу, в первые студенческие годы, пришла к нему великая журналистская слава.
Кажется, Кац разделяет мнение персонажа, что в статьях студенческого времени и позже (в работах «доеврейского периода») «не было ничего… кроме глупостей и болтовни». Но сам Жаботинский признавал: «Видно, в этой болтовне таился некий глубинный смысл, связывавший её с основными вопросами эпохи. В этом меня убедило не столько возрастание числа почитателей, сколько — и даже в большей степени — гнев врагов». Газеты с фельетонами «Альталены» (журналистский псевдоним) перепродавались по тройной, иногда по пятерной цене. Когда через три года он приехал к матери на каникулы, редактор предложил ему оставить Римский университет и пойти сразу работать — «на королевское жалованье». «Я хорошо знал, — вспоминал редактор через тридцать лет, — что один фельетон Жаботинского стоит десяти остальных». Тогда же пригласила его сотрудничать и влиятельная петербургская газета… Часто печатался в итальянской периодике — на итальянском, разумеется, языке. Кац не анализирует всерьез старые «русские статьи» — думаю, потому, что еврейская тема в них абсолютно не просматривалась. Как вспоминал его «сынок в литературе» (Жаботинский открыл тому дорогу в печать) Корней Чуковский — «от всей личности Владимира Евгеньевича шла какая-то духовная радиация, в нём было что-то от пушкинского Моцарта, да, пожалуй, и от самого Пушкина… Меня восхищало в нём всё… Теперь это покажется странным, но главные наши разговоры тогда были об эстетике. В. Е. писал много стихов — и я, живший в неинтеллигентной среде, впервые увидел, что люди могут взволнованно говорить о ритмике, об ассоциациях, о рифмоидах… От него я впервые узнал о Роберте Браунинге и Данте Габриэле Россетти, о великих итальянских поэтах. Вообще он был полон любви к европейской культуре, и мне казалось, что здесь лежит главный интерес его жизни. Габриэль д’Аннунцио, Гауптман, Ницше, Оскар Уайльд — книги на всех языках загромождали его маленький письменный стол. Тут же сложены узкие полоски бумаги, на которых он писал свои знаменитые фельетоны… Писал он их с величайшей легкостью, которая казалась мне чудом» (I, 29).
Читать дальше