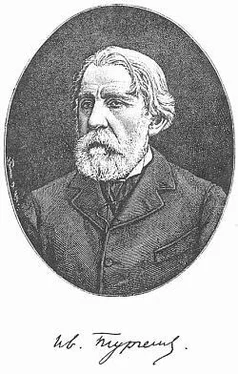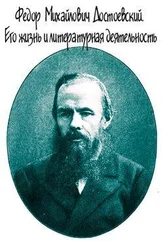На многих страницах романа заметно старческое утомление. Да, старость надвигалась и давала себя чувствовать. Тургенев видел это и старался отшучиваться. “После сорока лет, – пишет он, например, Суворину, – жить на свете точно не совсем весело, особенно в течение первых десяти лет… Ну, а потом, под влиянием холодка, веющего от могилы, человек успокаивается. Мне одна даже петербургская немка-старуха бывало говаривала: “Под старость жисть подобна есть мух: пренеприятный насеком… Надо терпейть!” Именно, “надо терпейть”…”
Но минуты уныния, страха перед могилой находили все чаще.
“Полночь, – писал он, например, в своем дневнике, – сижу я опять за своим столом… а у меня на душе темнее темной ночи… Могила словно торопится проглотить меня: как миг какой пролетает день пустой, бесцельный, бесцветный. Смотришь: опять вались в постель… Ни права жить, ни охоты нет; делать больше нечего, нечего… ожидать, нечего даже желать…” Напомню также прелестное стихотворение в прозе “Старик”.
“Настали, – пишет Тургенев, – темные, тяжелые дни, холод и мрак старости. Все, что ты любил, чему отдавался безвозвратно, гибнет и разрушается. Под гору пошла дорога. Что же делать? Скорбеть, горевать? Ни себе, ни другим ты этим не поможешь… На засыхающем, покоробленном дереве лист мельче и реже, но зелень его та же. Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминания, и там, глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет перед тобою своей пахучей, все еще свежей зеленью и лаской, и силой весны… Но будь осторожен… Не гляди вперед, бедный старик!”
Но – странно – после появления “Нови” талант Тургенева в “Песни торжествующей любви”, “Отчаянном” и “Стихотворениях в прозе” опять расправил свои могучие крылья, и в последний уже раз. Этюд “Отчаянный” был оценен по достоинству лишь Тэном, знаменитым историком, которого он поразил “удивительным изображением русского этнографического типа”. Сколько отчаянных знает хотя бы только история нашей литературы: Полежаев, Левитов, Решетников, Помяловский, Н. Успенский-все эти таланты рано погибли от водки, к которой их привела “тоска какая-то”, какая-то страсть самоистребления. Разве не сродни они тургеневскому “Отчаянному”…
В “Стихотворениях в прозе” полностью выразилась натура Тургенева, склонная к меланхолии, и здесь же он вернулся к тем чувствам, которые вдохновляли его при создании “Записок охотника”. Я приведу несколько отрывков, не нуждающихся в комментариях.
“Вершина Альп. Цепь крутых уступов. Самая сердцевина гор. Над горами бледно-зеленое светлое немое небо. Сильный, жестокий мороз; твердый искристый снег; из-под снега торчат стужовые глыбы обледенелых, обветренных скал. Две громады, два великана вздымаются по обеим сторонам небосклона: Юнгфрау и Финстерааргорн. И говорит Юнгфрау соседу: “Что скажешь нового? Тебе видней. Что там, внизу?” Проходит несколько тысяч лет – одна минута. И грохочет в ответ Финстерааргорн: “Сплошные облака застилают землю… погоди!” Проходят еще тысячелетия – одна минута. “Ну, а теперь?” – спрашивает Юнгфрау. “Теперь вижу; там, внизу, все то же, пестро, мелко. Воды синеют; чернеют леса, сереют груды скученных камней… Около них все еще копошатся козявки, знаешь, те двуножки, что еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня”. – “Люди?” – “Да, люди”. Проходят тысячи лет – одна минута. “Ну, а теперь?” – спрашивает Юнгфрау… “Около нас, вблизи, словно прочистилось, – отвечает Финстерааргорн, – ну а там, вдали, есть еще пятна и шевелится что-то”. – “А теперь?” – спрашивает Юнгфрау спустя другие тысячу лет – одну минуту. “Теперь хорошо, – отвечает Финстерааргорн, – опрятно стало везде, бело совсем, куда ни глянь… Везде наш снег, ровный снег и лед. Застыло все. Хорошо теперь, спокойно”. – “Хорошо, – промолвила Юнгфрау. – Однако довольно мы поболтали с тобою, старик. Пора вздремнуть”. Пора. Спят громадные горы; спит зеленое светлое небо над навсегда замолкшей землей…”
Присуща была Тургеневу эта глубокая меланхолия, это сознание тленности и суеты всего… Но вот и светлая, яркая точка в “Стихотворениях”:
“Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых – я хвалю и умиляюсь. Но и хваля, и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко. “Возьмем мы Катьку, – говорила баба, – последние наши гроши на нее пойдут, не на что будет соли купить, похлебку посолить”. “А мы ее… и несоленую”, – ответил мужик, ее муж. Далеко Ротшильду до этого мужика”.
Читать дальше