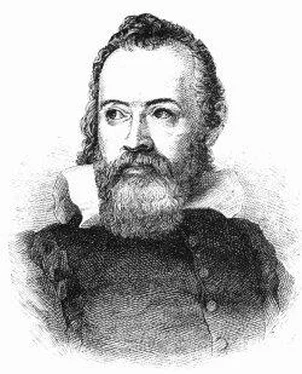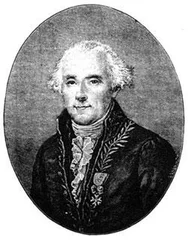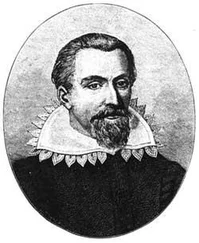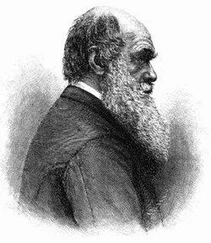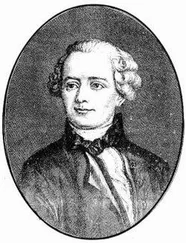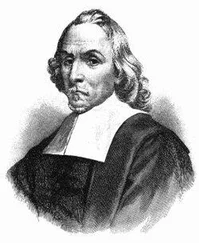«Все понять значит все простить». Мы можем теперь сколько угодно говорить, что смысл Св. Писания не страдает от того, как вещи происходят в действительности, потому что видимые явления остаются одинаковыми; мы знаем, что видимость до такой степени деспотически властвует над нашею мыслью, что мы и теперь, даже будучи астрономами и учеными, продолжаем говорить, что «Солнце движется по небу», употребляем выражения: «суточное и годовое движение Солнца», «переход Солнца через экватор» и т. п.; поэтому нам кажется странным требовать более точных выражений об этих явлениях от религиозных поэтов. Такой дуализм, такое противоречие видимости с действительностью в этой сфере нас нисколько не смущает, хотя в других сферах, например, в вопросе о «свободе воли», мы не так легко миримся с подобным же дуализмом. Совершенно иначе смотрели на это люди, для которых каждое слово Библии было словом абсолютной истины. Если бы Земля двигалась в пространстве, то всеведущий Бог, как им казалось, должен бы был открыть это людям, а между тем об этом не только нигде не было ни малейшего намека, но и положительно утверждались мнения, совершенно этому противоречившие. Так, согласно мнению вдохновенного псалмопевца, Земля предполагалась утвержденною на прочном основании, чтобы она не могла «сдвинуться во век века»; идущее по небу Солнце могло быть остановлено на месте. Во всем этом в свое время не видели ни иносказаний, ни поэтических гипербол; на это смотрели совершенно не такими глазами, как на вещи, рассказываемые «Илиадой» или «Одиссеей». Впрочем, даже и на произведения греческой поэзии смотрели тогда далеко не как теперь; для людей того времени это вовсе не были плоды поэтического вымысла или олицетворения сил природы, стихий и свойств человека – напротив, весь Олимп древности, как думали тогда, не только действительно существовал, но и продолжал существовать, потому что все эти боги и прекрасные богини были не что иное, как демоны и бесы, действительное же существование этих последних не подлежало ни малейшему сомнению.
Конечно, мы не утверждаем, чтобы высшее духовенство времен Галилея не имело на все это своего особого взгляда; очень может быть, что оно было и не столь наивно, как правоверная толпа и низшие представители клира; но оно обязано было поддерживать эти мнения в силу своего звания, если не желало перестать быть тем, чем оно было; оно прежде всего боялось скандала; духовенство могло не препятствовать распространяться новому учению мирно и спокойно, но официально оно не могло стать на его сторону и необходимо должно было осудить его.
Если мы станем на такую точку зрения, то в состоянии будем отнестись ко всей этой печальной истории более спокойно и посмотреть на нее просто как на антропологический факт, какие на каждом шагу представляет нам история и жизнь.
В самом деле, мы постоянно убеждаемся в том, что человеческое общество никому не прощает при его жизни не только величия, но даже сколько-нибудь выдающегося над средним положения. Оно бессознательно желает «середины», стремится держать всех на одном уровне, не допускает, чтобы кто-нибудь выдавался из этого уровня вверх, хотя опускаться вниз может сколько угодно. Это выдающееся положение не прощается только тогда, когда оно замечается в области умственной и нравственной – самых заповедных областях человечества. Богатство, почести, высокое положение в обществе или знатность, титулы и знаки отличия – все это легко прощается. Общество чувствует, что всего этого мог бы достигнуть всякий. Действительно, по словам Наполеона, всякий солдат носит в своем ранце маршальский жезл, и в теории всякий гражданин Соединенных Штатов может быть выбран в президенты республики. Все это для среднего человека возможно; но никакими усилиями воли для него невозможно сделаться ни гением, ни даже талантом, а отсюда – его вражда к современным ему гениям и талантам, бессознательно обижающим его своим умственным превосходством. Для потомства гений возносится на такую высоту, что ему уже не завидуют, а только удивляются и благоговеют; не то – для современников. Последние видят гения в своей среде, видят его со всеми недостатками, свойственными ему, как и им; во всем он, по-видимому, такой же человек, как и остальные, но в других отношениях он действует как бог и непременно ведет себя так, что постоянно задевает и оскорбляет, хотя бы и не умышленно, толпу; присматриваясь к нему, толпа видит, что он во всем хочет от нее отличаться, – отсюда ее постоянное желание «привести его к общему знаменателю». Таким образом, по отношению к выдающимся людям человечество всегда являлось попеременно то деспотом, то рабом.
Читать дальше