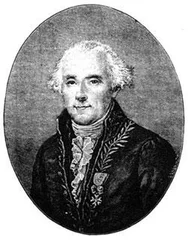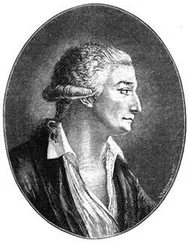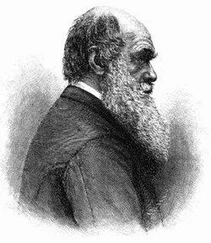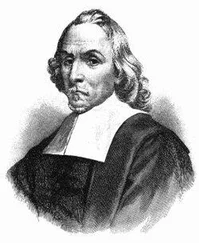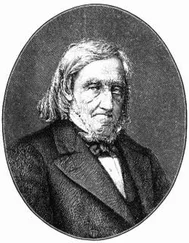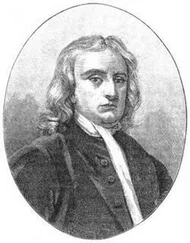Понятно, что такое направление могло только дискредитировать идеи эволюционизма, и в этом отношении ничего, кроме вреда, не принесло. Представьте себе портного, который, взяв кусок бархата или парчи, искромсал его, изгадил, обвалял в грязи и пришил к лохмотьям. Никто бы не поблагодарил за такую мантию. Так именно распорядились натурфилософы с плодотворной идеей эволюционизма.
Теория Ламарка имела гораздо более научный характер. Но и он принимал превращение видов a priori, в силу логической необходимости, а не как вывод из фактов. Ему не удалось открыть механизм этого превращения. Он высказал много глубоких, истинно пророческих мыслей, которые подтверждает и развивает современная биология, но общая теория его имела характер умозрения. Действительный процесс, происходящий в природе, оставался невыясненным вплоть до Дарвина.
«Philosophie Zoologique» Ламарка произвела сильное впечатление на Лайеля.
«Я проглотил Ламарка en vogage, – пишет он Мантелю, – как Вы – Сисмонди, и с таким же удовольствием. Его теории доставили мне больше наслаждения, чем какой бы то ни было роман, и притом наслаждения в том же роде, – так как они обращаются к воображению, – по крайней мере геологов, которые могут видеть великие последствия подобных умозрений, будь они основаны на наблюдениях. Но, хотя я восхищаюсь даже его увлечениями и отнюдь не питаю к нему odium theologicum, как некоторые из наших писателей, я все же читаю его как адвоката неправого дела».
В «Основных началах» он подверг воззрения Ламарка строгой и обстоятельной критике. Он показал, что теории французского ученого, не говоря уже об их бездоказательности, не объясняют процесс эволюции и не устраняют затруднений, возникающих, если мы отвергнем неизменность видов. Критика его была очень убедительна, против нее нечего было возразить, но вопрос все-таки оставался открытым. Как же развивается органический мир? Откуда взялись бесчисленные формы растений и животных? Возникли ли они независимо друг от друга или происходят от общего предка?
Лайель высказался за независимость видов. Человек так и появился на земле человеком, обезьяна – обезьяной, ворона – вороной; каждый вид был создан отдельно, особым актом творчества. Лайель сам чувствовал, что, изгоняя вмешательство чудесных сил из одной области, не резонно оставлять его в другой, – и старался придать более или менее благовидную форму своим воззрениям. Он не мог примириться с учением Кювье и д'Орбиньи, по мнению которых возникали и исчезали разом целые фауны. По его мнению, органический мир преобразуется медленно и постепенно: одни виды вымирают, другие зарождаются. Но как появляется каждая отдельная форма со своим сложным устройством, со своими особенностями и удивительными приспособлениями к известной среде, к известному образу жизни? Это он предоставлял объяснять преданию…
Многие критики Лайеля указывали на эту непоследовательность. «Немецкие критики, – говорит он, – жестоко нападали на меня, говоря, что, отвергнув доктрину самозарождения и ничем не заменив ее, я не оставил им ничего, кроме чудесного и прямого вмешательства Первой Причины при появлении каждого нового вида, и тем самым опровергаю свою же доктрину преобразования земной коры действием реальных сил». Да, он и действительно признавал вмешательство Первой Причины. Логика ученого разбивалась здесь о чувство верующего. «Когда я в первый раз представил себе процесс исчезания видов и появления новых, – процесс, который совершается ныне, совершался в течение бесконечных периодов прошлого и будет совершаться в грядущих веках, постоянно в гармонии с изменениями, происходящими в неодушевленном мире, – эта идея поразила меня, как грандиознейшее представление, какое я когда-либо имел о Провидении. Какую массу обстоятельств нужно было предвидеть или предугадать, чтобы решить, какими свойствами и силами должен обладать каждый вид, дабы просуществовать известный период времени и сыграть свою роль в отношении всех других существ».
Такова была общая теория Лайеля, если можно назвать теорией подобные умозрения. В частности, его отталкивала от эволюционизма необходимость подчинить той же теории и человека.
«Я, как нельзя яснее, понимал, – писал он впоследствии Дарвину, – что, сделав уступку в одном, придется допустить и все остальное. Вот что заставляло меня так долго медлить. Я всегда чувствовал, что человек и его расы подлежат тому же закону, что животные и растения вообще».
Читать дальше