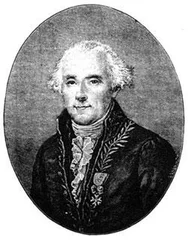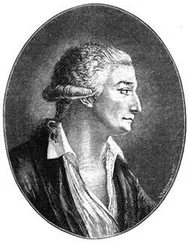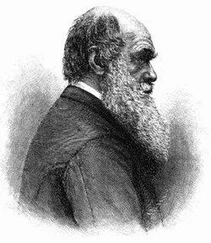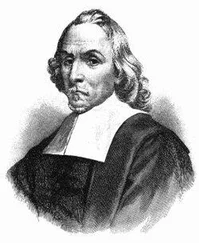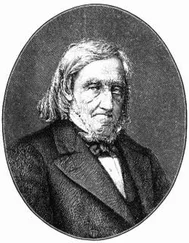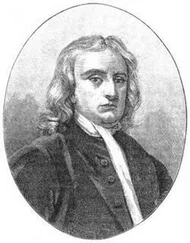«Я пишу тебе (жене), чтобы успокоиться после чтения полемических статей Эли де Бомона и других геологов против моей системы. Я буду прибегать к тебе всякий раз, как меня взволнуют нападки моих антагонистов. Ты моя тихая пристань, где я отдохну и забудусь. Я знаю, что через несколько лет мое положение в науке будет совершенно не то, что ныне; и боюсь одного – что у меня не хватит терпения, и я вздумаю вмешаться в полемику и тратить время на пустые споры и раздоры».
«Я твердо решил не тратить времени на полемику. Теперь работаю над вторым томом; потом, если книга будет иметь успех, примусь за второе издание, но даю себе клятву не отвечать на нападки. Этому ведь конца не будет… Буклэнд мог бы исследовать какой-нибудь новый вопрос за время, которое убил на полемику с Вами». (Письмо Флемингу, 1830 год).
В этом случае регулятор-рассудок, без сомнения, сослужил Лайелю добрую службу. В науке полемика не имеет никакого значения и, по всей вероятности, недалеко то время, когда великие открытия будут приниматься мгновенно, без всяких разговоров. Не то что в старые времена, когда система Коперника почти сто лет не могла утвердиться в науке, открытие Гарвея двадцать лет отвергалось лучшими анатомами Европы и так далее. Нынче это немыслимо, – во-первых, потому, что умы стали гибче и способнее к восприятию новых идей, во-вторых, потому, что фактический материал науки прибывает с каждым днем, как река в половодье, и ученому постоянно грозит опасность захлебнуться в этом наводнении. Как тут отвергнуть теорию, если она опирается на опытах и наблюдениях, объединяет и освещает факты, – если это действительно рабочая теория, а не схоластическое умствование…
Конечно, каждое новое исследование является проверкой и критикой, иногда опровержением прежних. Но под полемикой мы разумеем старый схоластический способ опровержения или доказательства известных тезисов посредством диалектических ухищрений, рассуждения a priori, «умственных опытов», как выразился один из русских схоластиков.
Мы не хотим сказать, что будущий ученый избегнет участи, постигающей новаторов. Нет, на это нельзя рассчитывать: человеческая природа не изменяется в своих основных чертах. Пророков всегда будут забрасывать если не каменьями, то памфлетами. Но это будет происходить вне научной области. Лучший пример – теория эволюционизма. Распространившись почти мгновенно в ученом мире благодаря книге Дарвина, она и до сих пор возбуждает полемику в литературной сфере. И, вероятно, долго еще будет возбуждать, потому что спорить можно и против арифметики; только обойтись без нее нельзя, когда приходится считать.
Чувствуя, что без его системы не обойдутся, Лайель спокойно ожидал ее торжества, продолжая свою работу.
Как мыслитель он занимает одно из первых мест в галерее великих движителей науки.
Наш век представил немало блестящих гипотез, открытий и изобретений; каждая отрасль науки или техники насчитывает десятки людей, прославившихся подобными открытиями, но – как и в предыдущих веках – лишь изредка появляются люди, способные связать в одно целое эти бесчисленные, разрозненные, крупные и мелкие открытия. К этой небольшой группе принадлежит и Лайель.
Ему в высшей степени была присуща способность связывать отвлеченную идею с конкретными явлениями, – способность крайне редкая, свойственная лишь немногим исключительным умам.
Основные идеи современной науки высказаны уже в незапамятные времена. Система Лукреция («De natura rerum») опирается на те же принципы, что и нынешняя научная философия. Кто первый высказал идею эволюционизма, сохранения энергии, вечности материи и тому подобное? Неизвестно. Мы встречаем эти идеи в сочинениях классических авторов; мы можем проследить их и дальше, до гимнов Веды и законов Ману; они теряются «во мраке времен»… Они явились уму человеческому, лишь только он начал задаваться отвлеченными вопросами.
Но эти отвлеченные идеи – только ключ к шифру. Шифр – природа, реальный мир, хаос явлений. Ключ известен уже со времен Веды, если не раньше, но разобрать шифр не удалось до сих пор. Над этой задачей бьется наука в лице своих великих и малых представителей. Величайшая гениальность заключается в уменье владеть этим ключом.
Идеи, лежащие ныне в основе точной науки, облекались древними в сказочную форму. «Ничто не уничтожается и не создается в природе», – говорит Овидий. Ту же мысль, выраженную теми же словами, мы читаем в «Traité de Chimie» Лавуазье. Овидий иллюстрирует ее рассказами о превращениях людей в камни и каменьев в людей; Лавуазье – исследованием химических превращений. Первый создает ряд волшебных сказок, второй – одну из точнейших наук.
Читать дальше