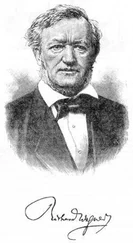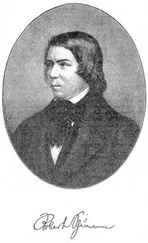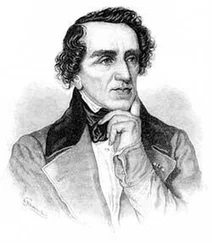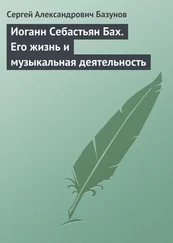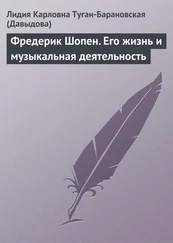Необыкновенная музыкальность и общая талантливость натуры ребенка резко бросались в глаза всем знавшим его. Так, по одному сохранившемуся известию, он «с самого детства обнаруживал решительную наклонность к искусствам и в особенности к театру. Он сам устраивал маленькие кукольные театры и сочинял для них нечто вроде водевилей». Там же мы читаем, что «семи лет от роду ему дали фортепианного учителя (речь идет, конечно, об упомянутом выше А. Т. Данилевском), с которым он вечно спорил, потому что больше занимался сочинением маленьких сонат и рондо, чем изучением механизма фортепианной игры». Эту удивительную, столь рано проявившуюся наклонность к самостоятельному творчеству подтверждает в автобиографии и сам Даргомыжский. «Страсть и прилежание мое к музыке были так сильны, – говорит он, – что я, несмотря на многочисленные уроки, которые должен был приготовлять для приходящих русских и иностранных учителей, на одиннадцатом и двенадцатом году моего возраста уже сочинял самоучкой разные фортепианные пьески и даже романсы».
Как же относился учитель Данилевский к этим детским опытам композиции своего гениального ученика? С точки зрения педагогики и дисциплины, быть может, хорошо, но совсем не в интересах позднейших биографических изысканий, когда становится ценным все, что мог оставить по себе великий человек, будь это даже самый первый детский лепет пробуждающегося гения его. Г-н Данилевский попросту уничтожал эти композиции, и Даргомыжский находит такое обстоятельство «забавным».
«Забавно, – говорит он, – что Данилевский не любил поощрять меня к сочинениям и уничтожал мои рукописи. Однако некоторые из них уцелели и поныне хранятся у меня».
Автобиография писалась в 1866 году, значит, тогда эти любопытные документы еще существовали, но где теперь они? Конечно, утрачены, как и многие более поздние и более важные произведения Даргомыжского. Известно, например, что в 1828 – 29 годах, то есть пятнадцати – шестнадцати лет от роду, успев уже познакомиться с некоторыми элементарными правилами теории и порядочно владея техникою игры на двух инструментах, он написал несколько дуэтов для фортепиано и скрипки, несколько квартетов и так далее. Куда потом девались все эти сочинения, на это никто не мог бы дать ответа…
Изучение фортепианной техники Даргомыжский закончил под руководством известного в свое время Шоберлехнера. Это был, по-видимому, действительно хороший музыкант. Будучи учеником знаменитого Гуммеля, он, без сомнения, имел методу и мог передать Даргомыжскому отличные технические приемы. К тому же он не был только пианистом-педагогом по профессии, словом – не был ремесленником. Он был, как видно, думающий и понимающий человек и, разгадав художественную натуру своего ученика, не замедлил отличить его среди других: не колеблясь, объявил он Даргомыжского первым своим учеником и занимался с ним особенно внимательно. Чтобы судить о влиянии его руководства и результатах разумного преподавания, достаточно прочесть хотя бы следующие строки из автобиографии Даргомыжского:
«В 1830-х годах я был уже известен в петербургском обществе как сильный пианист. Шоберлехнер называл меня первым своим учеником. Ноты читал я, как книгу, и участвовал во многих любительских концертах… Лучшие артисты, как то: Бем, Мейнгардт, Ромберг, – оставались мною довольны».
Заметим также, что всех этих успехов наш музыкант достиг, будучи очень молодым: в 1830 году, например, ему едва исполнилось 17 лет. Сама же достоверность показаний Даргомыжского не может подлежать никакому сомнению, ибо скромность, какою отличался композитор, подтверждается всеми свидетельствами, а в автобиографии его нет не только преувеличений, но, наоборот, звучит постоянно такая чрезмерная умеренность, что подчас становится даже досадно. К тому же приведенные сведения автобиографии находят себе подтверждение у таких лиц, знавших Даргомыжского, как, например, М. И. Глинка и А. Н. Серов.
Так, первый, описывая свое знакомство в 1833 году с Даргомыжским, говорит между прочим: «Когда он сел за фортепиано, то оказалось, что этот маленький человек был очень бойкий фортепианист »…
Со своей стороны А. Н. Серов в письме к В. В. Стасову, написанном в 1844 году, рассказывает о нашем композиторе следующее:
«В субботу отдал мне визит Даргомыжский. Он непременно требовал посмотреть мои сочинения. Я ему показал почти все, что у меня есть в несколько понятном для чтения виде. Он рассматривал (потому что читает музыку в голове, как книгу, совершенно свободно) внимательно и сказал: „Видна неопытность, но талант несомненный“. Он человек весьма прямодушный, и от него мне это было весьма приятно слышать… Последние слова его были: „Je vous conseille de travailler fortement“ [2].
Читать дальше