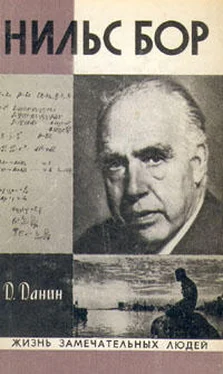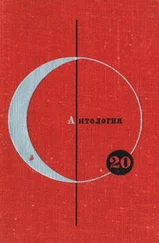Угроза нависла не только над классической физикой. Над классическим пониманием причинности. Резерфорд не ошибался — Бор это «полностью сознавал». Но у него выбора не было! Он мог бы отшутиться: в отличие от электрона не было у него выбора. Как, впрочем, и у Резерфорда, когда тот провозглашал классически невозможную планетарную модель. Оставалось положиться на будущее понимание.
В ряду всего, чему предстояло прийти после, таилось и это.
Бор навсегда запомнил тот первый абзац из письма Резерфорда. Через сорок пять лет, в Мемориальной лекции памяти Папы, он назвал те сомнения Резерфорда «очень дальновидными». Однако не затем, чтобы развеять их, бросился он тогда, в марте 13-го года, за билетом в Манчестер. Его погнала в дорогу другая беда. Может быть, еще поправимая.
Он продолжал читать, слыша голос Резерфорда:
…Я думаю, что в своем стремлении быть ясным Вы уступаете тенденции делать статьи непомерно длинными. Не знаю, отдаете ли Вы себе отчет, что длинные сочинения отпугивают читателей, чувствующих, что они не найдут времени в них углубиться.
Сначала Бор ощутил только легкое смущение, какое всегда испытывает человек, уличаемый в многословии. Он ведь хотел как лучше. Резерфорд верно понял — это от стремления быть ясным. Но к концу письма тон отеческого увещевания сменился властной нотой. И когда Бор дошел до постскриптума, ему стало решительно не по себе. Он страдальчески посмотрел на Маргарет и упавшим голосом прочел вслух:
P. S. Полагаю, Вы не станете возражать, если я по своему усмотрению вырежу прочь из Вашей статьи все те места, какие сочту необязательными? Пожалуйста, ответьте.
Что он мог ответить?
Когда тебе, озабоченному и макро — и микросмыслом написанного, говорят: «Скажи это же, но короче», всегда появляется опасность, что короче будет сказано уже не это!
Летом, в Манчестере, он видел, как сам Резерфорд работал над книгой о радиоактивности. Толстенная, дважды выходившая в прежние годы, она становилась в третьем издании еще толще: Папе было что сказать. Теперь ему, Бору, было что сказать…
Худшее заключалось в том, что, пока Резерфорд в Манчестере гневался на длину его работы, он в Копенгагене продолжал ее дополнять! Вдогонку первому варианту ушел второй. Почта из Англии разминулась с почтой из Дании. И он в смятении представлял себе, как Резерфорд уже держит в руках новый вариант —
— …Существенно расширенный, — рассказывал Бор в Мемориальной лекции. — Я почувствовал, что есть единственный способ поправить дело: немедленно отправиться в Манчестер и самому обо всем переговорить с Резерфордом.
Он явился в хорошо знакомый дом на Уилмслоу-роуд прямо с вокзала. И видится, как он дольше, чем нужно, вытирает ноги в прихожей, избавляя ботинки от черной слякоти манчестерского марта, а себя самого — от избыточной смеси скованности и волнения. А потом — распахнутые двери из белой столовой. Атлетическая фигура хозяина. И непомерный голос, радостно возвещающий не то домашним, не то всему Соединенному королевству о прибытии высокого гостя из Дании. И безнадежная мысль гостя, что этот-то голос он собирается пересилить…
Резерфорды были в тот будний вечер не одни. У них остановился давний друг из Монреаля — профессор Ив. Благодаря этой случайности нам осталось свидетельство человека, прежде ни разу не видевшего Бора, о том, как он выглядел тогда:
«В комнату вошел хрупкий юноша».
Неожиданное впечатление, если вспомнить резерфордовское прошлогоднее: «Бор — футболист». Ив нечаянно засвидетельствовал происшедшую в нем перемену — физическую цену кабинетного труда последних месяцев. И еще любопытно: постоянно ощущавший себя старшим среди сверстников, датчанин выглядел совсем юнцом.
Имя Бора ничего не сказало Иву. И оттого ему особенно запомнилась поспешность, с какою хозяин тотчас увел молодого гостя к себе в кабинет. Мэри Резерфорд объяснила Иву: «Это доктор философии из Копенгагена. Эрнст ставит его работы необычайно высоко».
Все последующее происходило без свидетелей. Оба участника поединка кое-что рассказали о нем впоследствии. А то, чего не рассказали, восстановимо без труда.
…Бор удрученно просмотрел оба варианта своей статьи — их уже коснулась рука Резерфорда. И с виноватостью в глазах слушал уверенные раскаты:
— Вы же знаете, мой мальчик, в английских правилах излагать вещи сжато в противоположность германской методе, почитающей добродетелью многоречивость.
Читать дальше