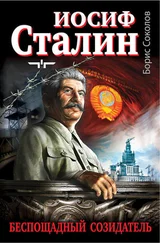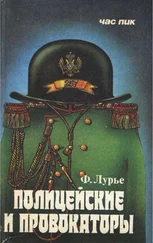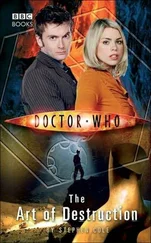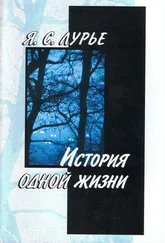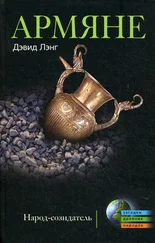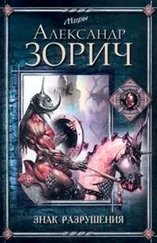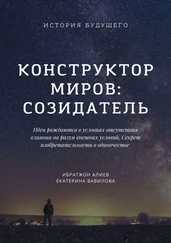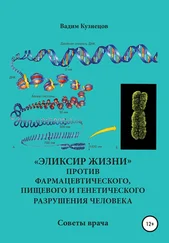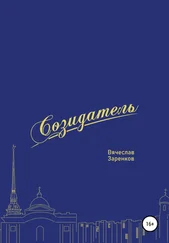Трон не терпел никаких оппонентов, он обрушивал на них репрессии, загонял в подполье, вынуждал конспирировать все свои действия, толкал на ниспровержение существующего политического устройства, то есть восстанавливал против себя. Охранители императорской власти, желая истребить крамолу любой ценой, допускали при этом чудовищные беззакония. В развернувшемся во второй половине XIX века изнурительном противоборстве произвол порождал произвол. Противоборство умножало число боровшихся и не имело победителей, вернее, победители были временные.
«Во весь период 1856–1881 годов, — писал бывший вождь народовольцев Л. А. Тихомиров, — господствующим умственным направлением был либерализм. Он издавна принес к нам веру в революцию как некоторый закон развития народов. Эти остатки наивных исторических концепций Европы XVIII века особенно прививаются у нас в сороковых годах, в шестидесятых годах вера в революцию, как нечто неизбежное, доходит до фанатизма. Внизу, в среде наиболее горячих голов, она порождает решимость начинать. Силы так называемых террористов 70-х годов были ничтожны, но, слепо веря в мистическую неизбежность революции, они решились употреблять все усилия на то, чтобы, рискуя и жертвуя всем, вызвать общее движение. Еще во время Нечаевского процесса прочитана была на суде любопытная записка, в которой излагалось, что революция есть огромная потенциальная сила, которую можно вызвать приложением даже небольшой активной силы, подобно тому, как зажженная спичка, брошенная в пороховой погреб, может взорвать целую крепость». [2] 2 Тихомиров Л. А. Конституционалисты в эпоху 1881 года. М., 1895. С. 25–26.
Тихомиров выразил основополагающую идею российского освободительного движения, приведшую к трагедии, разразившейся в начале XX века и не закончившейся до сего времени. Даже либеральная интеллигенция ошибочно полагала, что недовольство в России при Александре II всеобщее. [3] 3 См.: Тун А. История революционного движения в России. Пг., 1917. С. 47.
Реформы первых лет его царствования породили надежду, развили жажду деятельности, стремление вывести Россию на путь европейских государств. Император не обладал ни твердой волей, ни властной рукой, постоянные колебания в его действиях легко улавливались радикалами, порождали в них нетерпение, желание осуществления всего и сразу, то есть революции. Им казалось, что реформы обречены, но достаточно подтолкнуть народ, и он поднимется на бунт, а далее все само пойдет. И никто из них не подумал, что реформы требуют осмотрительности, что поспешность может привести к катастрофе.
В царствование Александра II в российском освободительном движении сложились три главнейших направления, получивших названия от фамилий их идеологов: лавризм (П. Л. Лавров), бакунизм (М. А. Бакунин) и бланкизм (Л. Бланки).
Лавристы ограничивали свою деятельность пропагандой в народе социалистических идей, с целью постепенной подготовки его к социальной революции.
Бакунисты утверждали, что народ вполне готов к революции, и вследствие этого призывали к всеобщему бунту.
Бланкисты видели свою задачу в захвате власти путем организации строжайше законспирированного заговора и установлении диктатуры революционного меньшинства. Помощи от народа они не ждали.
Российское революционное движение развивалось главным образом по второму и третьему направлениям. На своей родине, во Франции, бланкизм не получил столь уродливого развития, как в России, где ему «содействовало» самодержавие. И Нечаев, и народовольцы, создавая заговорщические сообщества, рассчитывали на всеобщее недовольство. Понимая, что на организацию всенародного восстания сил и средств у них недостаточно, они надеялись употребить свои действия в качестве запала для взрывного устройства, побудителя всенародного бунта. На разработку планов революционных преобразований уходили все силы радикальной части русского общества, эволюционный же путь развития, путь реформ имел среди них слишком мало сторонников. Идеологи революционного пути развития общества располагали весьма отдаленными знаниями о своем народе. Бакунин получил представление о крестьянине из литературы и народных былин, не глубже были познания у Нечаева, народовольцев и так далее, включая большевиков. Помещик, священник, купец, полицейский куда ближе стояли к народу и понимали народ лучше, чем профессиональные революционеры.
Читать дальше