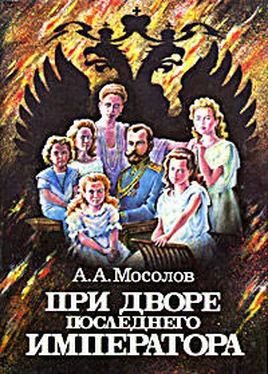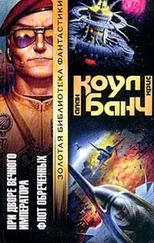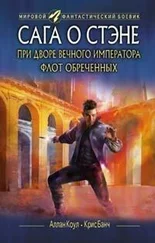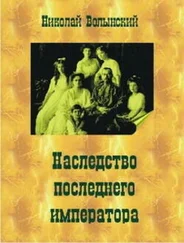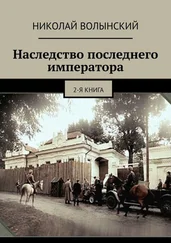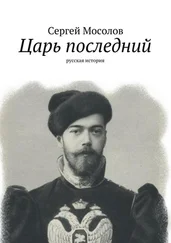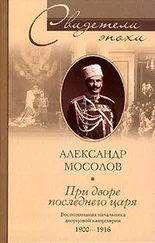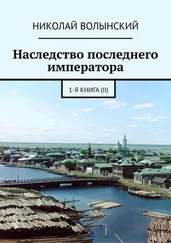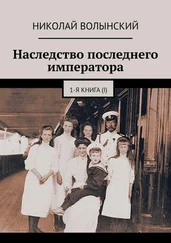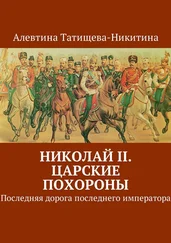Только в одной области царь (и этого нельзя ставить ему в вину) допускал послабление своего национализма: большой знаток музыки, он одинаково ценил как Чайковского, так и Вагнера. «Кольцо Нибелунгов» было поставлено на императорской сцене по его личному почину и возобновлялось регулярно в каждом сезоне.
Добавлю, что национализм Николая II не носил того крайнего, почти монолитного характера, как у Александра III. Сын был гораздо тоньше и культурнее отца, да и не располагал энергиею, чтобы приводить в действие крайности, в которые иногда впадал Александр Александрович. Николай II, правда, надевал дома красные крестьянские рубахи и даже дал их, под мундир, стрелкам императорской фамилии. Носились также с грандиозной мыслью об уничтожении современных придворных мундиров с заменою их боярскими костюмами московской эпохи. Даже поручили одному художнику изготовить нужные рисунки. В конце концов пришлось отступить пред чрезмерными затратами, которые были бы вызваны подобным планом. Когда подумаешь об одной парче да мехах, не говоря о самоцветных камнях и жемчугах…
Время было уже не то (или еще не то), чтобы проявления воинственного национализма могли успешно вызревать при дворе Николая II.
В одной лишь среде царь чувствовал себя по-товарищески: среди военных.
Во время обсуждения в военном министерстве вопроса о перемене снаряжения пехоты государь решил проверить предложенную систему сам и убедиться в ее пригодности при марше в 40 верст. Он никому, кроме министра двора и дворцового коменданта, об этом не сказал. Как-то утром потребовал себе комплект нового обмундирования, данного для испробования находившемуся близ Ливадии полку. Надев его, вышел из дворца совершенно один, прошел 20 верст и, вернувшись по другой дороге, сделал всего более 40, неся ранец с полною укладкою на спине и ружье на плече, взяв с собою хлеба и воды, сколько полагается иметь при себе солдату.
Вернулся царь уже по заходе солнца, пройдя это расстояние в восемь или восемь с половиною часов, считая в том числе и время отдыха в пути. Он нигде не чувствовал набивки плечей или спины, и, признав новое снаряжение подходящим, впоследствии его утвердил.
Командир полка, форму коего носил в этот день император, испросил в виде милости зачислить Николая II в первую роту и на перекличке вызывать его как рядового. Государь на это согласился и потребовал себе послужную книгу нижнего чина, которую собственноручно заполнил. В графе для имени написал: «Николай Романов», о сроке же службы — «до гробовой доски».
Конечно, впоследствии об этом узнали военные газеты, а затем и широкая публика. Не все, однако, знают, что император Вильгельм в письме к государю поздравил его с этою мыслью и ее исполнением, но, говорят, в несколько кислых выражениях. А наш военный агент в Берлине сообщил, что кайзер потребовал перевода всех статей по этому предмету из русских газет и досадовал, что не ему, германскому императору, пришла эта мысль.
После доклада этих сведений военным министром царь пожалел, что разрешил предать гласности испробованную им перемену снаряжения.
ЛУЧШЕ САМОМУ ПРОВОДИТЬ ИХ НА ФРОНТ
Царь считал себя военным, первым профессиональным военным своей империи, не допуская в этом отношении никакого компромисса. Долг его был долгом всякого военнослужащего.
Поясню примером, восходящим еще ко времени русско-японской войны.
Всем известна эта несчастная кампания: части следовали за частями; астрономические расстояния, отделявшие Европейскую Россию от театра военных действий (при незавершенной Круго-Байкальской железной дороге), пожирали наши войска совершенно бесследно. Жертвы все нарастали. Главнокомандующий Куропаткин повторял: «Терпения, терпения». Месяцы текли, а успехов все не было. Мало утешительного слышалось и писалось с фронта: доходили слухи о недоразумениях среди высшего начальства — признак нехороший.
Государь начал объезжать войска и благословлять их пред выступлением в поход. Речи царя к частям были весьма удачны и, особенно говорившиеся экспромтом, производили сильное впечатление. Заканчивались проводы войсковой части вручением ей иконы, благословлением от императрицы и государя.
Николай II становился все молчаливее. Чувствовалась под наружною сдержанностью безусловная тревога. Наконец и у него прорвались слова:
— Пожалуй, было бы лучше, чем провожать войска, самому проводить их на фронт.
Читать дальше