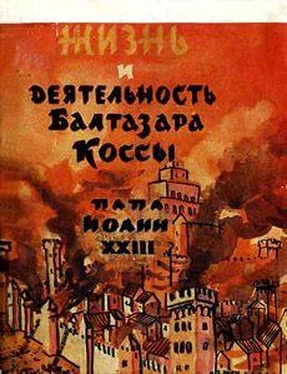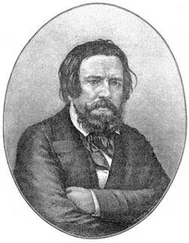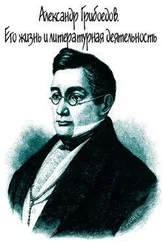Как правило, богатые люди так и поступали — откупались, а затем грешили снова. Назначение «выкупа» стало серьёзным источником дохода для служителей церкви, использовавших широко и с большим мастерством эту доходную монополию.
Они увеличивали наказания, делали их более утомительными и жестокими, и соответственно увеличивался и «выкуп». Индульгенции и увеличение платы за «особые» грехи принесли Иоанну XXIII огромную сумму, а это дало ему возможность действовать более решительно. Он снова вступил в переговоры с упорным врагом римского престола неаполитанским королём Владиславом.
«Если ты не будешь поддерживать Григория XII и признаешь власть римского престола, я уплачу тебе сто тысяч золотых флоринов», — писал Косса Владиславу. Владислав, испытывавший большие денежные затруднения, согласился. Он созвал церковных иерархов своего королевства, и они решили не подчиняться больше Григорию XII, а признать единственным папой Иоанна XXIII, кандидатура которого, как главы христианства, была выдвинута ещё собором в Пизе.
«Мы признаём тебя единственным законным папой для всех стран Западной Европы, в том числе и для Неаполитанского королевства», — писали они.
Косса отсчитал сто тысяч золотых Владиславу, а Владислав предложил Григорию XII, который гостил у него в Гаэте, немедленно убираться вон.
«До наступления октября ты должен покинуть моё королевство», — писал он бывшему папе.
И Григорий с тремя кардиналами, оставшимися при нём, вынужден был накануне зимы покинуть такой гостеприимный недавно кров. Он отправился в порт и сел на венецианский корабль. В открытом море его ждала засада, организованная Гаспаром Коссой, которого предупредил о выезде Григория Балтазар.
Но судьба смилостивилась над старым папой, кораблям удалось уйти от погони в Адриатическое море и благополучно пристать в Римини, где правителем был друг папы Григория Карл Малатеста.
Косса, расплачиваясь с Владиславом, не нанёс ущерба личному капиталу. Деньги эти он получил… от четырнадцати новых, выдвинутых им кардиналов. это они отдали за своё выдвижение сумму, превышающую даже ту, которая понадобилась для подкупа Владислава.
Утвердившись в Неаполитанском королевстве, Иоанн XXIII тут же предал анафеме папу Григория XII, лишившегося надёжного убежища у Владислава, и папу Бенедикта XIII, который жил теперь в Испании.
Папа Григорий XII, несмотря на то, что Иоанн стоял теперь во главе почти всего западного христианства, не сдавался и на анафему ответил анафемой.
Но Коссу теперь уже ничто не пугало. Власть его была общепризнанной. Ему удалось навести порядок и в Польше, где ещё бушевала разрушительная война между королём и крестоносцами, посланными предыдущим папой.
Страну наводнили толпы авантюристов, выразивших желание «служить западной церкви» и беззастенчиво грабивших народ.
Иоанн ХХIII направил послом к польскому королю архиепископа Пьяченцы, которому удалось примирить короля и крестоносцев. [32]
Шло время, события развивались благоприятно для Коссы. За небольшим исключением, все западноевропейские страны признали его единственным законным папой.
Теперь наконец Косса мог осуществить свою мечту — торжественно войти в свою настоящую столицу, в Вечный город. Восторженные толпы римлян приветствовали папу Иоанна ХХIII [104].
Обосновавшись в Риме, Косса в первую очередь постарался пополнить свою казну, выдвинув для этого ещё нескольких кардиналов, а затем обратился с письмом к папе Григорию XII.
«Все признали меня папой. Отрекись, перестань служить причиной раскола церкви. Соверши благое дело, признай и ты меня. Если ты согласишься, то, кроме поста первого кардинала, получишь ещё пятьдесят тысяч флоринов» [79].
Но Григория XII не соблазнили пятьдесят тысяч флоринов, он хотел быть папой, и его ответом была новая анафема Иоанну ХХIII. Иоанн тоже ответил проклятием и занялся подготовкой к собору, который должен был решить вопросы, поднятые ещё на предыдущем соборе в Пизе.
В 1413 году в Риме торжественно открылся собор, на котором присутствовали представители всех западноевропейских государств: Франции, Германии, Кипрского и Неаполитанского королевств, Флоренции, Сиены и других. Выступавшие на соборе ораторы особое внимание уделяли осуждению еретического учения Виклифа, проникшего в континентальную Европу. Виклиф, крупнейший профессор теологии Оксфордского университета, почти за 150 лет до Лютера требовал реформации и оздоровления церкви. Виклиф энергично отстаивал право английской или любой другой национальной церкви бороться с посягательствами святого престола на их самостоятельность.
Читать дальше