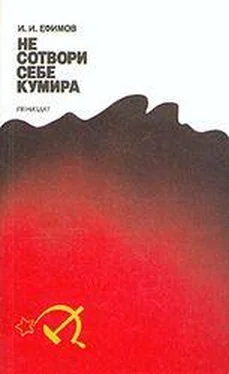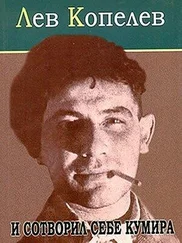Все это накопилось у меня за пятнадцать лет комсомольской и партийной работы. В эту же папку оперативник вложил и удостоверение об окончании Коммунистического университета, и воинский билет старшего политрука роты, и паспорт, впервые полученный пять лет назад, в год введения паспортной системы.
Вторая, не менее пухлая папка содержала многочисленные вырезки из газет и журналов – мои заметки начиная с 1925 года, статьи, очерки, фельетоны, рецензии…
Из битком набитого книжного шкафа была вынута каждая книга и брошюра и встряхнута за корешок – не выпадет ли из них какой-нибудь улики в моей «вражеской деятельности», не обнаружится ли там крамольны» сочинений и недозволенных рукописей. Знали бы они, как тщетны и нелепы были их поиски!
Впрочем, не так уж и тщетны! В качестве «крамолы» были изъяты и приобщены к делу всем известный роман Бруно Ясенского «Человек меняет кожу», затем толсты учебник политической экономии под редакцией профессора Кофмана и «Введение в философию диалектического материализма» советского философа академия Деборина. Улов был явно мал, я видел это по разочарованной мимике агентов, но помочь им ничем не мог. Я лишь мельком подумал, что Деборин тоже кому-то помешал…
– Разрешите открыть?- спросил у мамы третий уполномоченный, показывая на платяной шкаф, у которого она все это время молча сидела как замершая, с ужасом наблюдая за происходящим.
– Открывайте!- воскликнула мать, встав со стула.- У нас ничего не запирается! Обыщите все до нитки, ироды, пусть все знают, что у моего сына совесть чиста и никаких закоулков там нету!
– Не мешайте, гражданка, мы найдем, что нам надо…
– Мы вам не помешаем, а вы, молодые люди, нам уже помешали! Что же, у вас днем времени не хватает, если по ночам рыскаете, людей пугаете… Матери-то есть ли у вас?
– Не надо, мама, успокойся,- обнял я и снова усадил в сторонке мою несчастную старушку.
– Мы делаем свое дело, порученное нам государством,- сказал ей агент, открывая дверцы шкафа, а затем и нижние бельевые ящики.
– Оно и видно, что государству делать нечего, как только наряжать по ночам вот таких проворных лоботрясов!- не успокаивалась мать, вообще-то не очень говорливая.- Другого дела себе не сыскали…
– Замолчите, гражданка Ефимова!-сказал старший.-А вы действительно мешаете нам!-обернулся он к моей жене и сестрам, молча и ошарашенно глядевшим на ночных гостей.- Я настаиваю, чтобы вы все вышли и не отвлекали нас. Чем скорее закончим, тем лучше будет для всех.
Все, кроме матери, вышли, а говоривший стал помогать другому коллеге трясти одежду и белье.
На полу скоро вырос ворох недавно выглаженного белья, еще не утерявшего запаха реки,- женского, мужского, детского, встряхнутого и смятого. Глядя на все это, мать опять не сдержалась и завсхлипывала от обиды и незаслуженного унижения…
После того как в занимаемых нами комнатах все было перевернуто вверх дном, пересмотрены все кровати и вся мебель, к более чем скромным «вещественным доказательствам» прибавилась лишь большая пачка писем друга моей молодости Лени Истомина Очевидно, она соблазнила чекистов тем, что на многих письмах стояли иностранные штемпели и адресе отправки: Генуя, Лондон, Гамбург и другие портовые города Европы, куда заходил теплоход «Бела Кун», на котором плавал рулевым мой верный товарищ. «Тут пахнет связью с иностранной разведкой»,- думалось, наверное, сыщикам, когда один из них передал эту связанную шнурком пачку старшему для занесения в протокол обыска.
В четвертом часу все было закончено, увязано, подписано, и мне предложили одеться.
– Что взять с собой из вещей?- спросил я.
– Ничего не надо,- ответил старший лейтенант;- Едва ли вы там долго пробудете, а на пару суток много не потребуется.
Будучи, видимо, достаточно опытным в таких делах он уже понимал, что я совсем не то, на что рассчитывало его начальство. И я, поверив ему, надел лишь пиджак, сунул в карман пачку «Беломора» и тридцатку денег. Зайдя в спальню, простился с женой, поцеловал Юрку, затем попрощался с мамой и сестрами и в окружении стражей вышел на крыльцо.
Насильственное расставание с родными и домом посреди глухой ночи было полно тяжелой печали. Слезы и всхлипы жены и сестер, раздирающие душу тихие, как по покойнику, причитания матери до сих пор звучат в моих ушах горестным воспоминанием. Поцеловал еще раз всех, вышедших вслед за мной, и, поторапливаемым нетерпеливыми пришельцами, зашагал в темноту.
Читать дальше