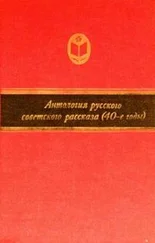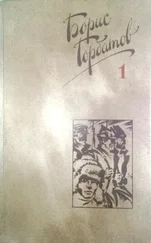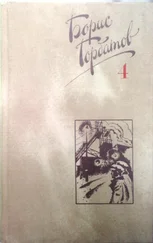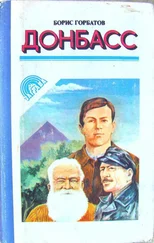Тихо встал он с перины - хозяйку бы не разбудить! - тихо оделся, постоял у двери. Прошептал: "Спасибо, хозяюшка. Не осуди!" - и, махнув рукой, вышел.
И когда вышел на свежий ветер, стало на душе его легко и вольно.
И опять была перед ним дорога в дыму и крови - крестный путь русского народа. И опять он шел через дымящиеся села, мимо пепелищ и виселиц, и горькие слезы женщин падали в его душу, младенческий крик звенел в его ушах, - этого предсмертного крика ему никогда не забыть.
Он был честный и мудрый, справедливый мужик, простой души и чистой совести. Он привык во всем разбираться медленно и осторожно, любил всех выслушать, чтоб всех понять и никого не обидеть. И когда он видел пожары и трупы, он понимал - это война, про это и деды рассказывали. Но детей, детей за что? Он стоял над детским трупиком, над беленькой девочкой, которую так, походя, пристрелил фашист, и не понимал: зачем? за что? И думал: "Вот и мою Анютку, доведись, так же..."
В другой раз он увидел, как грабят немцы кооператив, напихивают в танки ящики, бочки, мануфактуру... И вдруг вспомнилось Куликову, как, бывало, после хлебосдачи приходил он в сельпо и, облокотившись на прилавок, начинал с продавцом Иваном Родионовым серьезный разговор. Иван Родионов надевал на этот случай очки в жестяной оправе и доставал из-под прилавка тетрадь заказов, а Куликов говорил ему, что затеял он к зиме новую шубу построить, а хозяйке понадобится маркизет, а сынишка пойдет в школу, стало быть валеночки...
- За маркизет не ручаюсь, - озабоченно отвечал Иван Родионов, - но что будет, по силе возможности...
Вот теперь тащат немцы маркизет, сукна, валенки. Они разбили двери, сломали замки, разворотили полки... И опять не понимал Куликов: "По какому праву? Ведь это же наше, мое добро..."
Раз проходил он мимо разбитого немцами родильного дома. Не с руки ему было, а зашел. Словно силой какой потянуло. Были выбиты в доме все стекла, и мебель переломана, и на полу солома, навоз и грязь. Через все палаты прошел Куликов, и лицо его было каменным, а глаза сухими. А в одной палате не выдержал - уронил слезу. Детские кровати тут были. Беленькие, махонькие, кроватки для новорожденных.
И он долго стоял, склонившись над пустой кроваткой, как тогда над трупом девочки в ситцевом платьице с горошинами. И вспомнилось ему, как однажды, ранней весенней зарей, приехал он в район в больницу, - жена рожала первенького. Доктор вышел на крыльцо, поздравил с сыном. Покурили. "Летчик будет?" - пошутил врач. "Нет, - ответил Алексей, - будет, как отец, пахарем". Такая в то утро теплынь была, и вся местность звенела, точно вокруг всё колокола и жаворонки, а у больничного крыльца, застоявшись, нетерпеливо ржали кони, добрые рыжие кони, и в бричке пылала под солнцем гора золотой соломы, - это чтоб новорожденного не растрясти.
И впервые подумал Куликов здесь, у пустой детской кроватки: "До чего ж складно было все у нас устроено на нашей земле! Если жене рожать - больница, сына учить - школа, семена травить - лаборатория, трактор ладить к весне МТС".
Все разрушил фашист, все, что было любо и дорого Алексею Куликову, все, к чему привык он, чем жил. Весь уклад его жизни растоптал фашист. Нет, это не такая война, про которую деды рассказывали. Нет, это не такой враг. И все накипало и накипало сердце Куликова яростью... Трудно его рассердить, но горе тому, кто рассердит его!
Однажды он засиделся в хате, куда загнала его непогода. Хозяин, степенный пожилой мужик, оставлял ночевать - дождь на дворе, холодно. Куликову и самому не хотелось уходить - сколько дорог уж он прошел, сколько еще идти! - но деликатничал: "Время неспокойное, может стесню?" Они беседовали негромко и неторопливо, и все о том же, что времена пришли страшные, беда, разорение.
Вдруг - громкий стук приклада в дверь, звон стекла, и - немцы. Они не вошли, как люди в чужую избу входят, сняв на пороге шапку и поздоровавшись, - ворвались. Один сразу же забегал по избе, другой бросился к столу, третий нетерпеливо закричал хозяину:
- Фить! Фить! - и показал рукой на дверь.
Хозяин не сразу понял, чего хочет от него гитлеровец. Он чуял: стряслась беда, а какая - еще неведомо. Но немец все злее кричал ему: "Фить! Фить!" - и пистолетом показывал на дверь. И только тогда хозяин сообразил, что его просто гонят из хаты на улицу. Он растерялся: как же можно такое? Ведь это его изба. Может, они не знают, что эта изба - его, его собственная? Может, они не верят, что это его хата? Так все соседи подтвердят. Вот и иконы в углу - ими еще при деде освятили новоселье, вот и сундук, купленный в Ромнах на базаре, вот постель, стол, карточки на стене - все его, хозяина, вещи. Он разводил руками, объяснял, тыкал пальцем то в фотографии, то в иконы, но немец уже совсем свирепо крикнул ему: "Фить!" - и вышвырнул его за порог. Просто вышвырнул.
Читать дальше