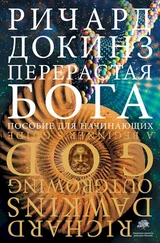Кто-то может понять вопрос “Следует ли мне поступить так или эдак ?” как “Следует ли мне поступить так или эдак , чтобы продлить свою собственную жизнь?”. Но если долгая жизнь будет достигаться в ущерб размножению, то есть если долгожительство особи будет противопоставлено выживанию ее генов, естественный отбор не поддержит его. Размножение бывает опасным делом. Самцы фазанов обладают великолепной окраской для привлечения самок, но эта окраска привлекает и хищников. Тускло окрашенный, малозаметный самец, вероятно, проживет дольше, чем ярко окрашенный и неотразимо привлекательный. Но первый с большей вероятностью умрет, не оставив потомства, поэтому гены, делающие фазанов мужского пола безопасно тусклыми, с меньшей вероятностью передадутся следующим поколениям. При естественном отборе принципиальное значение имеет именно выживание генов.
Вот какие слова можно было бы с полным основанием вложить в клюв самца фазана: “Если я отращу себе тусклое оперение, я, вероятно, долго проживу, но не найду себе пары. Если же я отращу себе яркое оперение, то, вероятно, погибну молодым, но успею передать своим потомкам множество генов, в том числе гены яркого оперения. Следовательно, я должен «принять решение» отрастить яркое оперение”. Стоит ли говорить, что слова “принять решение” здесь означают не то, что обычно понимают под этими словами люди, когда имеют в виду себя? Осознанный выбор здесь не задействован. Подобные метафоры, относящиеся к уровню организма, могут сбивать с толку, но их позволительно использовать, если всегда помнить, как их можно переформулировать в терминах выживания генов. Ни один фазан на самом деле не решает, яркое или тусклое оперение ему отращивать. Но гены, делающие оперение ярким или тусклым, имеют разную вероятность выживания и передачи следующим поколениям фазанов.
Когда мы пытаемся разобраться в действиях животных, исходя из современных представлений о дарвиновских механизмах, бывает весьма удобно рассматривать самих животных как роботов, “думающих”, какие шаги им предпринять для передачи своих генов следующим поколениям. Такие шаги могут включать определенные формы поведения или отращивание органов определенного строения. Кроме того, бывает удобно метафорически представлять себе гены , “думающие”, какие шаги им предпринять для собственной передачи следующим поколениям. Такие шаги обычно включают воздействие на отдельные организмы путем изменения процессов эмбрионального развития.
Но у нас нет никаких оснований даже метафорически представлять себе животных, думающих о том, какие шаги им предпринять для сохранения своего вида или своей группы. Естественный отбор не предполагает избирательного выживания групп или видов. Он включает в себя лишь избирательное выживание генов. Поэтому уместны такие метафоры, как: “Если бы я был неким геном, что бы я сделал для собственного сохранения?” – или (в идеале означающие в точности то же самое): “Если бы я был неким организмом, что бы я сделал для сохранения своих генов?” Но совсем неуместны метафоры, подобные следующей: “Если бы я был неким организмом, что бы я сделал для сохранения своего вида?” Аналогичным образом неуместны (хотя и по другой причине) такие метафоры: “Если бы я был видом, то что бы я сделал для собственного сохранения?” Последняя метафора не годится потому, что виды, в отличие от отдельных организмов, даже в метафорическом смысле не ведут себя как деятельные существа, делающие что-либо, исходя из принятых решений. У видов нет ни мозгов, ни мышц, они представляют собой лишь наборы отдельных организмов, у которых мозги и мышцы имеются. Виды и группы – это не “машины”, в которых ездят гены. А вот организмы – “машины”.
Стоит отметить, что ни в своих лекциях, которые я читал в шестидесятых годах, ни в “Эгоистичном гене” я не подавал идею о гене – фундаментальной единице естественного отбора как что-то особенно новое. Я считал ее (прямым текстом говоря об этом) одним из положений, подразумеваемых ортодоксальным неодарвинизмом, то есть теорией эволюции, как она была впервые сформулирована в тридцатых годах Фишером, Холдейном, Райтом и другими отцами-основателями так называемой синтетической теории эволюции, в числе которых были также Эрнст Майр, Феодосий Добржанский, Джордж Гейлорд Симпсон и Джулиан Хаксли. Лишь позже, уже после публикации “Эгоистичного гена”, как критики, так и поклонники этой идеи стали считать ее революционной. В то время она не казалась мне таковой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
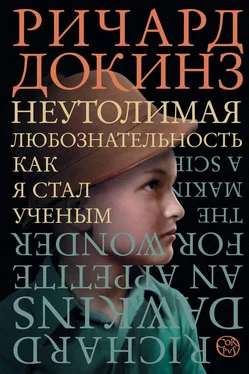


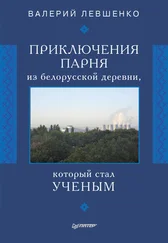




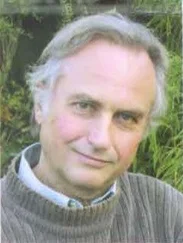
![Ричард Докинз - Река, выходящая из Эдема [Жизнь с точки зрения дарвиниста]](/books/393180/richard-dokinz-reka-vyhodyachaya-iz-edema-zhizn-s-to-thumb.webp)