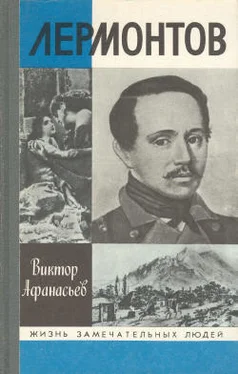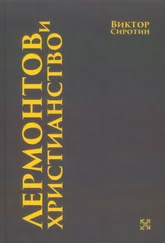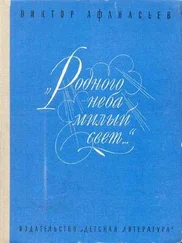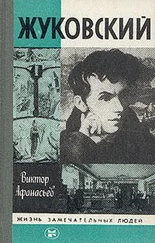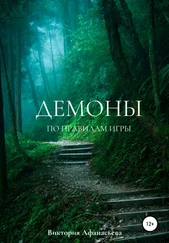.. Он склонялся над колыбелью, невидимый, с лирой, повешенной на шею по обычаю странствующих менестрелей. Может, была эта лира той, которая звучала в замке Эрлстоун над туманной рекой Твид, где певец, получивший в юности от царицы фей дар к сочинению песен и дар прорицания, пел на пирах. Его предсказания сбывались, и он стал славен среди шотландского народа. Так говорится в легендах о Томасе Лермо́нте, авторе древнейшего варианта «Тристана и Изольды». Прошли годы, и в час, когда он этого не ждал, два белых оленя увели его в горы, и он исчез навсегда. Царица фей призвала своего должника, а должен он был ни много, ни мало —
душу свою...
Рассеянный судьбою род Лермонтов искал счастья по всему свету. Одна его ветвь оказалась в России. Царь Михаил Федорович указал выходцу из «Шкотской земли» Георгу Лермонту учить «рейтарскому строю» московских ратников и пожаловал его землями за Волгой, в Галичском уезде. К восьмому колену, когда и явился в этом роду младенец Михаил, Лермонты обрусели и стали Лермонтовыми, незнатными дворянами, почти совсем утратившими воспоминания о той земле, откуда вышли. К этому времени костромские земли они поменяли на тульские. Юрий Петрович Лермонтов, двадцатисемилетний капитан в отставке, был владельцем тульского села Кропотова.
Одетый в теплый халат, Юрий Петрович заходил в детскую, держа руки за спиной. Младенец Михаил его не узнавал. Другое дело мать, Мария Михайловна, хрупкая девятнадцатилетняя женщина с большими темными глазами. Когда она брала на руки сына, он замирал от восторга. Но как же это блаженство было всегда коротко! «Отдай, отдай Мишеньку», — говорила бабушка не допускающим возражений тоном и отбирала младенца. Елизавета Алексеевна не спускала с него глаз. Нянька и кормилица не смели шагу ступить без ее указаний.
Снова наступала тишина ночи... Словно белые олени царицы фей, белела за окном лунная улица. Никто, кроме младенца Михаила, не слышал печального ропота струн... И не так, как всем, слышны были ему другие звуки, пронизывающие воздух от земли до Божьего престола, — говор меди, несущийся с московских колоколен. Изо дня в день будили эти колокола дремлющую душу младенца Михаила, полня ее чудесным и тревожным гулом... Вдалеке — Иван Великий; совсем близко — Три Святителя... Это говорила Россия.
Шел май 1825 года. Обоз двигался на юг уже около двух недель. Три большие кареты, пять-шесть телег, нагруженных и укрытых парусиной, запасные лошади, несколько верховых... Во время остановки на ночлег или на обед целая толпа людей выходила из карет, слезала с телег, разминала ноги. Барыни, девицы, барчата... А сколько дворовых, нянек, конюхов, поваров... Каждый знал свое дело и перед отъездом получил грозное наставление Елизаветы Алексеевны.
Где только не останавливался этот поезд — на почтовых станциях, постоялых дворах, в крестьянских избах, городских гостиницах и под открытым небом. Ночью ехать не рисковали. В дорогу пускались на рассвете. Ясная погода часто сменялась ненастьем. Раз днем их застигла буря с ливнем и непрестанным грохотом грома. Остановились. В карете были подняты окна. Тугие струи шипели и гремели сверху и с боков. Бабушка громко молилась в темноте. Когда все стихло и дверцы открылись, Миша соскочил на землю. Ветер нес последние обрывки туч.
Этот живой мальчик, сильный, коренастый, с непокорным светлым вихром в темных волосах, еще в Тарханах засматривался на облака. Они что-то говорили ему... Даже совсем маленьким — лет семи или восьми — он подходил ночью к окну и долго глядел на темные тучи, клубящиеся вокруг луны, набегающие на нее... Волшебница среди одетых в плащи рыцарей... И снова та же картина: ехал он в коляске с кем-то, вдруг — вот так же — гроза: налетела, отгромыхала, — снова прояснилось небо. Но клочок тучи, словно обрывок плаща, быстро мчался в синеве, уносимый ветром... Миша следил за этим клочком, словно чувствуя в нем какую-то тайну... Тайна, очевидно, была, потому как запомнилось ему это навсегда.
Он не заметил, как возле него оказались Миша Пожогин-Отрашкевич (его сверстник, двоюродный брат) и гувернер Жан Капэ. Этот худой, высокого роста человек — бывший офицер наполеоновской гвардии. Он попал в плен и осел в России, но навсегда сохранил любовь к своему низложенному императору. Капэ принялся рассказывать, что вот в такую же грозу, в Австрии... Француз чувствовал себя в походе прекрасно, по крайней мере всем так казалось. Ни пыль, ни тряска, ни жар как будто не действовали на него. Он был всегда в хорошо вычищенном сюртуке, выбрит и спокоен. Мальчикам он внушал, что они не должны чувствовать усталости. Их ждут гораздо более суровые испытания, когда они станут взрослыми, сделаются офицерами. Ведь непременно будут войны... А теперь — просто прогулка, отдых. Тебя везут, устраивают на ночлег, к твоим услугам куча лакеев, даже доктор. Пожалуй, и сам Бонапарт не имел в дороге таких благ.
Читать дальше