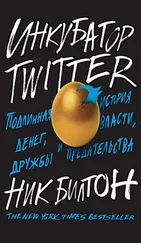Ее обеспокоенность могла быть вызвана – или подтверждена – рисунком Пикассо: девочка сидит на стуле, задрав ногу, и разглядывает стопу. На полу перед стулом стоит таз с водой. Сама по себе поза девочки вполне невинна и восходит к знаменитой римской бронзе «Спинарио», или «Мальчик, вынимающий занозу»; нельзя не упомянуть также импрессионистическую скульптуру Матисса «Извлекающий занозу», которую художник выполнил годом раньше и для которой ему, возможно, позировала Маргарита. Вскоре, летом, та же поза будет использована Пикассо для сидящей африканской обнаженной и в конце концов – с оглядкой на заново переосмысленную правую фигуру в сезанновских «Трех купальщицах» – получит неожиданное развитие в фигуре сидящей на корточках проститутки в «Авиньонских девицах». Однако в рисунке Пикассо слишком явно ощущается отталкивающий налет вуайеризма. Рисунок девочки – не более чем беглый набросок, и демонстративный акцент на гениталиях тем неприятнее.
Немного спустя Фернанда поняла, что у нее нет иного выхода, как вернуть Раймонду в приют. Собравшись в квартире Аполлинера, обитатели Бато-Лавуар устроили прощальную вечеринку. Стоит ли удивляться, что Раймонда была растеряна и молчалива. Жакоб уложил ее куклы и мяч в коробку, перевязал все бечевкой, потом взял девочку за руку и «с бесконечно печальной улыбкой» повел назад в сиротский дом.
В начале сентября, после долгого лета на юге, Матисс вернулся в Париж. К этому времени Пикассо был совершенно измучен и разбит. После расставания с Раймондой Фернанда и сама довольно скоро от него съехала. Их затяжной роман, как видно, подошел к концу. В работе Пикассо не стоял на месте, но творческий прогресс давался дорогой ценой. Одержимость «Авиньонскими девицами» – картиной, из-за которой Фернанда чувствовала себя униженной и даже поруганной, поскольку автор, похоже, вымещал на холсте свое недовольство ветреной подругой, – оттеснила ее далеко на задний план. А теперь она и вовсе исчезла из его жизни.
Как сложится судьба картины, пока было совершенно неясно. Единодушное неприятие его замысла на первом, доафриканском этапе со стороны друзей, коллекционеров и торговцев, вероятно, в не меньшей степени, чем визит в Трокадеро, повлекло за собой радикальную переработку всей композиции. Однако две африканские маски в новой версии картины сделали ее и подавно неудобоваримой для зрителей. Пикассо продолжал терзаться сомнениями: картина не покидала его мастерскую еще долгих десять лет. Очевидно, все это время он не мог прийти к решению, считать ли этот вариант окончательным.
Возможно, Матисс тоже сыграл свою роль. Среди всех знакомых Пикассо он был одним из немногих авторитетных судей, кто при желании мог бы рассеять сомнения молодого художника, – хватило бы простого сочувствия его новаторским поискам. Но здесь сработала уже его, Матисса, собственная неспособность увидеть, объективно оценить достигнутое – последние два года, начиная с фовистской эскапады, он сам страдал от приступов неуверенности. Это стало для него сущей мукой.
Еще до возвращения в Париж Матисс был наслышан о тяжелом душевном состоянии Пикассо и о его в высшей степени странной новой картине. В конце июля – начале августа он на время покинул Коллиур и съездил в Италию. Там, особенно во Флоренции, где Матисс встретился с Гертрудой и Лео Стайн, он подпал под очарование итальянских примитивов, мастеров Проторенессанса, таких как Джотто и Дуччо. Изумительные фрески, с их округлыми, скульптурными, лаконично-значительными формами, указали ему путь к решению задачи, как уравновесить и обуздать стихийные импульсы, ворвавшиеся в его живопись под влиянием африканского искусства. К тому же он увидел в них нечто созвучное его собственному интересу к чистому, плоскому цвету и упрощенным контурам детских рисунков. Но самое главное – они были исполнены одухотворенности, строгой чистоты и тишины; в сравнении с ними пышная, богато расцвеченная масляная живопись венецианцев показалась ему испорченной, растленной.
Во время совместного путешествия между Лео Стайном и Матиссом неожиданно стали возникать трения. Репутация Матисса в артистическом мире была необычайно высока (не в последнюю очередь благодаря поддержке тех же Стайнов), и, вполне возможно, это невольно задевало Лео – неудавшегося художника. Но непосредственная причина крылась в их вынужденном тесном общении посреди флорентийского эстетического изобилия. Матисс откликался на все, что видел во Флоренции, с жаром сопричастного искусству человека, одержимого жаждой немедленно «прибрать к рукам» любой новый опыт, употребить его для собственных нужд. Восприимчивость Стайна была принципиально иной. Он реагировал с искренним энтузиазмом, но без личной заинтересованности, с чуждой Матиссу позиции сугубо интеллектуальной оценки. Оба гордеца – в равной степени интеллигентные, умеющие облекать свои впечатления в слова и желавшие непременно донести свою правду до окружающих – безуспешно пытались достучаться друг до друга, и чем дальше, тем больше действовали друг другу на нервы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу