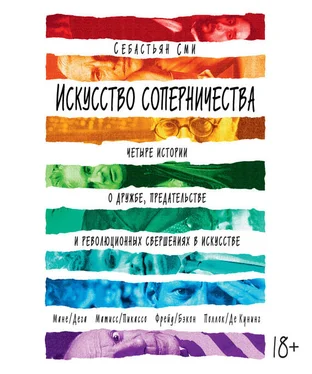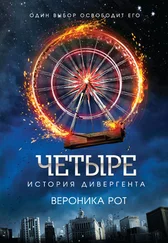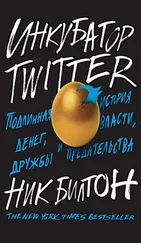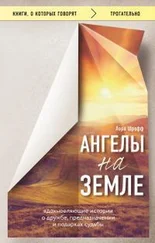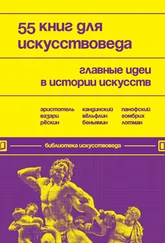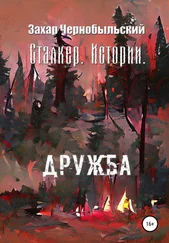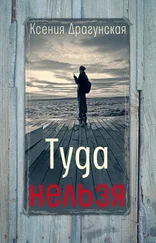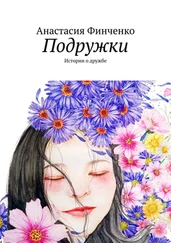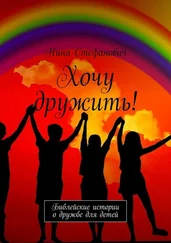Таковы были основные, наполовину инстинктивные побуждения Матисса. Но поскольку он к тому времени был уже признанным «вождем новой школы», то мог позволить себе и соответствующую манеру держаться – своеобразное воплощение noblesse oblige [2]под видом равноправного товарищества. Пикассо смотрел на вещи иначе. Он всю жизнь был окружен людьми, признававшими его превосходство. Сама мысль о том, чтобы стать чьим-то последователем, была для него неприемлема.
Много лет спустя Матисс сказал Пикассо, что он как кошка: «Какое бы сальто-мортале вы ни выкинули, всегда приземлитесь на четыре лапы». На что Пикассо ответил: «Да, лучше не скажешь, а все потому, что у меня сызмальства чертовски развито чувство равновесия и композиции. Что бы я ни затеял как живописец, шею я себе не сверну».
Зато Матисс как живописец в 1906 году едва не свернул себе шею. А ревниво наблюдавший за ним Пикассо – впервые в жизни – был выбит из равновесия. Речь идет не об одном-единственном нокаутирующем ударе, от которого он вскоре сумел бы оправиться, призвав на помощь свою звериную интуицию. Нет, это испытание продолжалось неделю за неделей, по мере того как в мастерской Матисса и на стенах домашней галереи Стайнов одна за другой появлялись новые, ни на что не похожие, завораживающие взгляд работы, – ничего смелее, ярче, резче, ослепительнее Пикассо в жизни своей не встречал. На протяжении всего 1906-го и нескольких месяцев 1907 года Пикассо был вынужден снова и снова перенастраивать свое внутреннее мерило, приспосабливая его под то, что открывалось его глазам. Если добавить к этому особые обстоятельства (всегда убедительный, авторитетно теоретизирующий Матисс; превозносящие его на все лады Стайны, умевшие заразить своей верой многочисленных гостей; и, наконец, сам Пикассо, угрюмый молчаливый наблюдатель, с раздражением встречающий вопросы о собственном творчестве – вопросы, на которые у него не было ответа), то станет понятно, чего ему все это стоило.
С каким облегчением он возвращался к себе на Монмартр! По воскресеньям, после очередного субботнего вечера у Стайнов, Пикассо и Фернанда отсыпались. Около одиннадцати они шли вниз на площадь Сен-Пьер, где под стенами еще недостроенной базилики Сакре-Кёр шумел местный рынок. Пикассо разгуливал в синем комбинезоне парижского мастерового, Фернанда набрасывала на плечи испанскую мантилью. На рынках бурлила жизнь, а Пикассо только этого и надо было, чтобы восстановиться после мучительных посиделок у Стайнов и целой недели изнурительной, не приносящей удовлетворения работы в мастерской. Фернанда уверяла, что Пикассо «любит шумную простонародную толпу: она помогает ему развеяться, отвлечься от постоянных мыслей о творчестве».
Между тем Матисс набирал очки. Его «Радость жизни» произвела впечатление не только на Стайнов, но и на 56-летнего текстильного промышленника из России по имени Сергей Щукин. Щукина преследовали несчастья: сначала утрата сына, потом любимой жены. И когда этот состоятельный, но сломленный горем человек увидел картину-видение Анри Матисса, он испытал ни с чем не сравнимое потрясение и тут же попросил Воллара представить его художнику. На протяжении следующих десяти лет он станет самым отважным, самым крупным и – после Сары Стайн (к тому времени уже настолько «заболевшей» Матиссом, что вскоре они с Майклом сосредоточатся на коллекционировании исключительно его картин) – самым преданным его патроном.
Картина «Радость жизни», с ее большими пятнами плоского насыщенного цвета и атмосферой мятежного самозабвения и упоительной чувственности, вызвала небывалый приток посетителей в квартиру на улице Флёрюс, 27, который оттуда плавно устремился на улицу Мадам, 58. В тогдашнем Париже оба дома Стайнов превратились в главные центры паломничества для всех неравнодушных к новейшему искусству, а таких набралось немало. Новому веку исполнилось шесть лет. В воздухе витало ощущение неслыханных перемен. В XIX веке Париж был столицей мира искусства. Сохранит ли город – с его вонзившейся в небо башней, просторными, заполненными экипажами и людьми бульварами, всемирными выставками, подземным лабиринтом труб пневматической почты и созвездием железнодорожных вокзалов, – сохранит ли он свое главенство в веке двадцатом? Люди хотели знать – и устремлялись в Париж. В то время, если оставить в стороне какофонию ежегодных салонов, единственным местом, где был представлен официальный срез нового искусства, был Люксембургский музей. Однако на фоне последних достижений даже этот музей, заполненный вполне традиционными по стилю пейзажами, портретами и образцами исторической живописи, выглядел анахронизмом, принадлежностью былой эпохи. Куда как интереснее было то, что открывалось взгляду на расположенной в двух шагах от него улице Флёрюс. Вот где действительно можно было увидеть подлинно новые работы Матисса и Пикассо, соседствующие с картинами Мане, Сезанна, Боннара, Мориса Дени, Эжена Делакруа, Тулуз-Лотрека и Ренуара. Оба дома Стайнов изрядно обогатились картинами Матисса с его второй персональной выставки, прошедшей весной 1906 года в галерее Дрюэ.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу