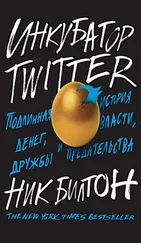Пикассо был ошеломлен. Ностальгия по Аркадии – идиллической обители невинной простоты и безоблачного счастья – была как нельзя более созвучна духу времени. За минувшие полвека во Франции появилось несколько новых переводов «Буколик» Вергилия (литературного источника Матиссовой живописной идиллии): в стране, уставшей от политических катаклизмов, волшебная греза пленяла воображение поэтов и художников и находила благодарный отклик у публики. Так, Пюви де Шаванн в своих монументальных циклах неоднократно обращался к этой теме, трактуя ее в духе неоклассической аллегории. Тогда как Поль Гоген воспринял призыв о бегстве в мир наивной гармонии – столь красноречиво прозвучавший в стихотворении Бодлера «Приглашение к путешествию» – вполне буквально, отправившись на поиски утраченного рая в Южные моря. Его собственный пасторальный шедевр «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» был отправлен в Париж с острова Таити и в 1898 году выставлялся в галерее Воллара, где его, вероятно, и видел Матисс.
Заразившись общим поветрием, Пикассо не один месяц вынашивал замысел картины «Водопой» на подобный буколический сюжет: большое полотно должно было изображать обнаженных юношей и лошадей у водопоя. Задумывалось оно как символическое возвращение к истокам, архаической простоте, исполненной безыскусности и покоя, в противоположность сумбуру и грохоту современной метрополии. Этой картиной Пикассо рассчитывал заявить о своих новых творческих притязаниях.
Одного взгляда на картину Матисса ему было достаточно, чтобы понять: его опередили. Он тут же забросил «Водопой». Какой смысл показывать работу, заведомо уступающую «Радости жизни»? Матисс не пошел по пути бледных, худосочных подражаний древним грекам, или Гогену, или Пюви де Шаванну. Что бы кто бы ни думал о его полотнах, им нельзя было отказать в новизне, в бесспорной оригинальности.
В следующие полтора года разыгралась величайшая драма в истории искусства модернизма. В поединке сошлись два гения изобретательности – равно одаренные, но полностью противоположные по своему темпераменту и всему строю чувств, – сошлись, чтобы выяснить, кто из них двоих истинный новатор и реформатор искусства. По большому счету речь шла о величии. Но это в перспективе более отдаленной, а в ближайшей важнее было выяснить, насколько каждый из них способен увидеть другого – увидеть по-настоящему, то есть понять, – и насколько каждый, напротив, предпочтет отгородиться от другого, то есть предпочтет не видеть или видеть заведомо предвзято.
Как ни странно, Матисс долгое время словно бы не замечал, что вовлечен в непримиримое противостояние. Большинство рассказов об этом периоде времени, написанных задним числом, когда Пикассо уже прославился, представляют дело так, будто Матисс с первого дня распознал в Пикассо соперника. Но все его поведение свидетельствует скорее об обратном, а точнее, только о том, что он восхищался талантом молодого художника и готов был с ним познакомиться и подружиться, но не видел в его работах никакой серьезной угрозы.
Художники часто встречались – не только у Стайнов, но и в мастерской у Матисса, куда Пикассо регулярно наведывался. Они вместе прогуливались по Люксембургскому саду. Оба обладали своеобразным шармом и получали, вероятно, несмотря на разницу в возрасте и скверный французский Пикассо, искреннее удовольствие от общения: с интересом прислушивались к мнению друг друга о предшественниках и современниках в искусстве (в том числе, возможно, об архетипическом противостоянии Делакруа и Энгра, о дружбе-соперничестве Мане и Дега; наверняка о Гогене и Сезанне) и обменивались шутками по адресу общих знакомых – тех же Стайнов или Воллара.
На этом этапе своей карьеры, когда положение его было еще очень непрочным, Матисс страшно зависел от мнения окружающих. Постоянно чувствуя на себе любопытные взгляды знакомых и просто зевак, он вдвойне охотно протянул руку дружбы молодому испанцу: ободрял и хвалил его, проявлял заботу и внимание, приглашал к себе, познакомил с семьей, с Амелией, с Маргаритой, которая вечно пропадала в отцовской мастерской – когда позировала, когда помогала прибраться… Такая линия поведения лишний раз убеждала всех в благородстве Матисса и давалась ему без труда.
Отчасти Матисс, конечно, строил далекоидущие планы, поскольку и он, и Пикассо, и другие художники их круга были вовлечены в большую общую борьбу. Всех их объединяла принадлежность к модернизму, а борьба велась за зрителя. Они рисковали на каждом шагу, хотя награды за риск могли и не дождаться – у всех в памяти живы были истории предшественников: сколько лет прозябали в бедности импрессионисты, сколько оскорблений выпало на долю Мане, сколько мыкался Ван Гог, пока не свел счеты с жизнью, сколько лет самоотверженно трудился Сезанн, пока не умер в безвестности. Тех, кому улыбнулась судьба, можно было по пальцам пересчитать. Художникам-новаторам признание всегда давалось нелегко, и вряд ли Матиссу и другим тогдашним авангардистам стоило рассчитывать на то, что это правило на них не распространяется. И потому имело смысл поддерживать друг друга. Они сидели в одной лодке, и от успеха каждого выигрывали все.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу