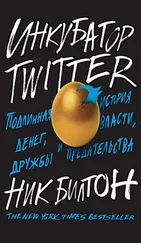Поллок последовал его совету и день за днем, работая по своей новой методе, покрывал красками поверхность огромных холстов. Так возникло несколько картин – необычных, впечатляющих и очень разных по цвету, фактуре и настроению. Некоторые, с расплывами алюминиевой краски, по которой в разные стороны разбегаются тонкие, перепутанные, прерывистые линии с вкраплениями брызг (то как миниатюрные летящие кометы, то как секущий дождик), при беглом взгляде создают впечатление кружевной кисеи или цветной паутины. Кажется, что полотна пульсируют, вспыхивают мигающими огоньками, словно далекие галактики в бездонных просторах космоса. Генри Макбрайд в статье для «Нью-Йорк сан» в 1949 году счел россыпь брызг на одной из картин Поллока «красивой и упорядоченной», создающей эффект «уничтоженного войной города, возможно Хиросимы, на который смотришь с большой высоты при лунном свете». Другие, наоборот, до предела нагружены, с толстыми слоями краски, местами, по периметру, хранящей отпечатки пальцев, а то и ступни художника, с застывшими в краске мелкими камешками и какими-то обломками, и все это теснится, сталкивается, спорит друг с другом на поверхности. Сознавая специфику своих работ, Поллок давал им ассоциативные названия, от «Галактики» и «Фосфоресценции» до «На дне морском», «Зачарованный лес», «Люцифер» и «Собор» ( цв. ил. 13).
По образному выражению критика Паркера Тайлера (1950), «Поллоковская краска летит сквозь пространство, как хвостатая комета, и, расшибаясь о непреодолимую преграду в виде плоского холста, взрывается, оставляя после себя для нашего обозрения навеки застывшие фрагменты катастрофы». Завихрения краски у него словно лабиринт, где «нет главного выхода, как нет и главного входа, ибо каждое движение автоматически несет свободу, которая есть одновременно вход и выход».
Пегги Гуггенхайм была одной из тех, кто раньше других видел и покупал эти картины. Несомненно, она и выставила бы их у себя раньше всех, да только Нью-Йорк ей наскучил, и в 1947 году она закрыла свою галерею и уехала в Венецию. Перед отъездом ей удалось уговорить другую галеристку, Бетти Парсонс, взять Поллока под свое крыло. Вот почему «капельная живопись» Поллока впервые была представлена в галерее Бетти Парсонс.
Новое изобретение отнюдь не вызвало единодушного восторга зрителей. Кое-кто из критиков назвал картины инфантильной, примитивной мазней. Другие сочли их сугубо декоративными, показными, пустыми – ни драмы, ни глубины. Но все сходились на том, что живопись Поллока не имела аналогов. Прежде никто так не писал. И было в его картинах что-то такое, что поражало воображение – не только критиков, вроде Гринберга (который всемерно поддерживал Поллока на этом пути), но и художников. Немногие из собратьев Поллока могли сформулировать, что именно их взволновало. И почти никто не выразил открыто своего одобрения. Но лучшие среди них – включая де Кунинга – почувствовали, что произошло нечто экстраординарное, и пристально вглядывались в эту странную живопись, пытаясь разобраться в своих ощущениях.
Поллок перебрался на Лонг-Айленд, но прежняя среда обитания, авангардная богема Нижнего Манхэттена, хорошо помнила его дикие эскапады: пьяные дебоши, приставание к женщинам и демонстративные безобразные выходки – стоило ему учуять в воздухе запашок чинной благопристойности. Большинство людей считали поведение Поллока следствием расшатанной психики. Трудно было предвидеть, что он может выкинуть, и еще труднее было все это терпеть. Однако де Кунинг охотно проводил время с Поллоком всякий раз, как тот наезжал в город (обычно в компании с другими художниками, скажем с Францем Клайном), и относился к его чудачествам скорее сочувственно. В его собственной природе было место и жестокости, и сумасбродству, и анархии. Однажды де Кунинг неожиданно высказался о раскрепощенности – своеобразной «удали» Поллока, на которого смотрел с откровенной завистью (не только как на художника, но и как на человека).
Я завидовал ему – его таланту. Но он вообще был незаурядной личностью. Постоянно удивлял… Он вмиг понимал, с кем имеет дело. Сидим мы, скажем, за столом, и тут входит какой-то парень. Поллок на него даже не взглянул, только молча кивнул раз-другой… как заправский ковбой… в смысле – «отвали». Это его любимое выражение: «Отвали!» Вот ведь потеха, представляете? Он на него даже не взглянул!..
И де Кунинг пустился в воспоминания.
Франц Клайн рассказывал мне, как однажды Поллок явился при полном параде. Он пригласил Франца на обед в одно шикарное место. Ну, сидят они там, едят. И вдруг Поллок замечает, что бокал у Франца пустой. Он и говорит ему: «Давай налью тебе еще, Франц». Наполняет его бокал, а сам смотрит, как льется вино из бутылки, так засмотрелся, что всю бутылку-то и вылил. Залил еду, стол, все… Он недаром сказал: «Налью тебе еще!» Лил и радовался, будто ребенок, это же здорово – смотреть, как вино заливает все вокруг. Потом взял скатерть за все четыре угла, поднял вместе со всем, что на ней было, и шмякнул на пол. На глазах у всех! Просто сбросил все на пол, к чертовой бабушке… Расплатился – и ничего, никто его не задержал. Удивительно, что́ он себе позволял. Там были такие официанты – никому спуску не давали, и еще швейцар в дверях, и вообще. Это было лихо, это жизнь!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу