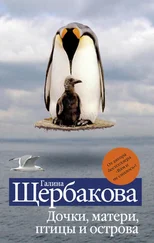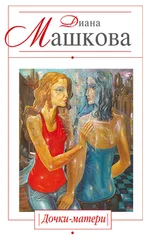И вот наше возвращение в Москву. Казалось естественным, что мама должна жить у себя дома, с нами — со мной и Андреем. И в июне Таня привезла маму. В декабре мамы не стало. Всего шесть месяцев мы были вместе. Почему так быстро она угасла? Может не следовало ей возвращаться? Непереносима была разлука с внуками и правнуками? И вообще нельзя в восемьдесят семь лет снова резко менять весь уклад жизни? Эти вопросы пришли после похорон. И ответить на них я не смогу никогда. А мамина записная книжка, как и ее письма из США нам в Горький, тоже об одиночестве.
Но не буду говорить за маму. Пусть она сама — ее записи августд — сентября 1987 года: «Начинаю понемногу приспосабливаться. Привыкла жить одна... (как когда-то привыкала спать одна). И заделье нашла — телевизор. Я ведь раньше его не больно жаловала. Читаю меньше — устают глаза и отказывают мозги и память. Старшие (это мы с Андреем — старшие дети! Примечание мое) иногда меня вывозят покататься — тоже мне большое отвлечение — обожаю смотреть из окна на «белый свет».
Они в общем счастливы, много заняты, крепко припаяны друг к другу и ни в чьем присутствии не нуждаются — им хорошо вдвоем. Единственное, что их гложет, это разобщенность (дети в США), ну, и конечно, дети АД. Иногда слушаю хорошую музыку. Григ, Бетховен, Моцарт. Душа замирает, ропщет разум. Никогда раньше не вызывала (музыка) такого волнения. Сейчас перестала слушать, боюсь этой новой тревоги. Живу, как играю в молчанку... А мне как на грех хочется рядом близкого, без раздражений... Я вот уже который день не могу оторваться от мысленных рассказов самой себе. После меня останется так много погибших жизней... Не защитила я их хотя бы словом, хотя бы памятью... Молчу, молчу и терзаюсь тем, как получилось сейчас и тем, что давно было. Сейчас ничего не делаю и главное не хочу. Залезла в свое одиночество, как в черную дыру. Спустилась в прошлое и совсем погибаю. Столкнул меня чистый, много переживший Игорь Пятницкий (наш друг — сын одного из ведущих работников Коминтерна. Примечание мое} — рассказами о следователе, который вел дела коминтерновцев... Есть запись, что он убил на допросе товарища А, Уверена, что Геворка... Моя дочь находит, что общение с людьми (Игорь Пятницкий) мне вредно. До чего же она глупый врач. Разве после моей-то жизни можно услышать или узнать от кого-либо и что-либо более страшное... Я остаюсь, как в одиночке».
Вот такая мамина последняя записная книжка. Но я действительно ругалась с Игорем Пятницким, чтобы он поменьше при маме вспоминал 37-ой год, аресты, допросы, следствие, потому что после каждого его визита у мамы подымалось давление или начинался сердечный приступ. Я старалась вообще избегать этих тем при маме, видя, как она начинает волноваться. Сейчас я думаю, что делала это напрасно. Уберечь маму от мыслей о прошлом не могли никакие мои ухищрения. Как нельзя себя ничем спасти от чувства вины перед ушедшими, хотя бы за то, что их нет, а ты живешь. У мамы было чувство вины перед бабушкой за свою судьбу, которая рикошетом прошлась по бабушке. У меня — перед мамой за мою судьбу и мое счастье. Дочки — матери! Дочки — матери!
24 марта 1991
Примечание 1990 года . Скучное письмо.Теперь, когда я знаю, что эта рукопись стала книгой, я думаю, что читать его не обязательно. Но я не могу его отбросить - для меня эта книга началась с него.
Летом 1989 года мы с Андреем были в Осло. К нам в гостиницу пришла молодая женщина с мужем — внучка маминой кузины Руфы. Меня поразило, что в ней я увидела какие-то семейные черты. Зовут ее Надин — Надя. Одна ее сестра живет в Италии. Другая в Париже.
Детей, оставшихся без родителей в 1937 году (и во все годы «до» и «после»), Илья Эренбург назвал «странные сироты».
В том спектакле Вронского играл не Массальский, а Прудкин. Массальский играл позже, начиная, кажется с 40-го года. Но я столько раз смотрела «Анну Каренину», что, видимо, у меня произошла аберрация памяти, и оба исполнителя слились в один «неприятный» образ. Та традиция — ходить в театр — оборвалась в 70-е годы, но это уже другой разговор.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
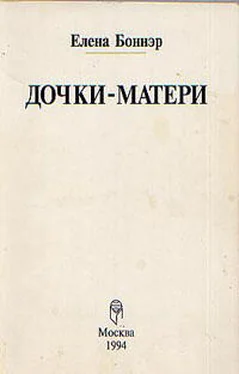
![Елена Березовская - Дочки-матери [Все, о чем вам не рассказывала ваша мама и чему стоит научить свою дочь]](/books/26072/elena-berezovskaya-dochki-thumb.webp)