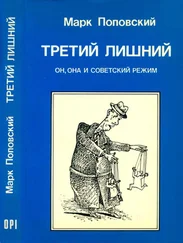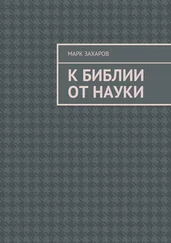В 1911 году царский министр просвещения Кассо призвал для расправы над бунтующими студентами полицию. Поведение министра возмутило профессуру Московского Университета, 124 профессора подали прошение об отставке и покинули здание, оскверненное полицейским вторжением. Восемнадцать человек потом вернулись и просили у министра восстановить их на покинутых кафедрах, но подавляющее число ученых предпочли остаться без работы, но не кланяться министру-хаму. Русский профессор знал себе цену. Даже в мундире он был личностью. Он ценил себя, он знал, что общество в целом на его стороне, ибо профессор в тогдашнем мире был лицом значительным, в какой-то степени даже уникальным, Те, кто стали ведать делами советской науки, учли опыт прошлого. Первую и наиболее важную задачу свою увидели они в том, чтобы новую науку сделать внеличностной, не зависящей от знаний, умственных и нравственных качеств каждого отдельного профессора.
Сначала взялись за перекройку Академии наук. В 1927 году Совнарком сделал Академии «подарок» — удвоил число академических вакансий. Одновременно введена была новая выборная система. С помощью этих подарков уже в следующем году удалось провести в академики большую группу партийцев («целый троянский табун», — как прокомментировал те давние выборы один из моих ученых собеседников). Чтобы укрепить Академию партийцами и тем самым создать кадры легко управляемых академиков — директоров институтов — начальство пускалось во все тяжкие. Личного друга Ленина Кржижановского произвели сначала в академики-философы, потом перевели «на укрепление» в отделение физико-математическое. Протолкнули в академию весьма среднеобразованного, но зато высокопартийного Луппола (позднее умер от голода в лагере). Сбой произошел, когда в Академию наук начали впихивать И. И. Скворцова-Степанова, человека с неполным средним образованием, но зато члена партии с 1896 года. По рассказам современников академики провалили партийца с треском. Власти пошли на обходный маневр. Кто-то из тогдашних вождей обратился за помощью к академику-физиологу Павлову. Иван Петрович уже начинал привыкать к советской власти, ему щедро выделяли деньги на опыты, строили лаборатории. И вот на очередном Общем собрании Российской АН Павлов обратился к коллегам с речью. Сводилась она к тому, что Калигула, пожелавший сделать своего коня консулом, в конце концов настоял на своем, хотя как известно, сенаторы противились превращению Консулата в конюшню. «Но то был конь, господа, — воскликнул в этом месте академик Павлов, — а вы взгляните на Ивана Ивановича Скворцова-Степанова, ведь это вполне симпатичный человек! К чему же нам упорствовать?!» После такой «рекомендательной» речи, безнадежно махнув рукой на предрассудки прежних лет, академики избрали большевика единогласно. [32] Впрочем большевик И. И. Скворцов-Степанов не успел занять преподнесенного ему академического кресла. Он умер в 1928 году тотчас после знаменитых «выборов» в Академию наук.
По мере заполнения научных вакансий партийцами и ухода со сцены личностей, управляемость науки возрастала. Никто из вновь поставляемых на должность, уже не требовал, подобно Вавилову, чтобы ему во что бы то ни стало разрешили экспедицию в дальние страны или строили заводы азотных удобрений, как об этом без конца твердил Прянишников. Всяк академик и профессор стал знать свое место и стал дорожить этим местом, стараясь не беспокоить начальство по пустякам.
Правда, вымирание и выбивание классиков науки, равно как замещение их кантонистами [33] «Самый лучший способ избавиться от специалистов — это заменить их кантонистами… Всякий знает наверное, что любого кантониста можно призвать, сказать ему; „исследуй природу человека!“ — и он исследует. Мало того, что исследует, но в то же время ни до каких подозрительных результатов не дойдет. Химик-специалист никогда не остановится во-времени, а все хочет что-то исчерпать, до чего-то дойти; химик-кантонист дойдя до известной границы, не только сам благоразумно отретируется, но и другим скажет „цыц!“» (М. Е. Салтыков-Щедрин: Полн. собр. соч., том 1, стр. 317).
растянулось на многие годы. До сих пор занимают директорские кресла около дюжины бывших крупных ученых, бывших подателей идей, которые однако успели за это время вполне перестроиться. Смена функции, полный переход в чиновное состояние внешне пошли им на пользу: бывшие получили золотые звезды Героев Социалистического труда. Ленинские и Сталинские премии, они нежатся на своих дачах и за государственный счет ездят по заграницам. Но разрыв с подлинной наукой оскопил их, поразил полным творческим бесплодием. Среди бывших достойны упоминания биолог Энгельгардт, химики Семенов и Несмеянов, физик Скобельцын, математик И. Виноградов, генетик Дубинин.
Читать дальше
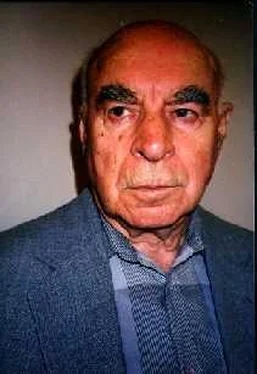

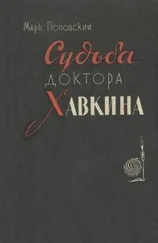
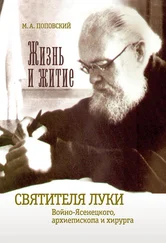

![Марк Поповский - «Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке]](/books/432316/mark-popovskij-my-tam-i-zdes-razgovory-s-ros-thumb.webp)