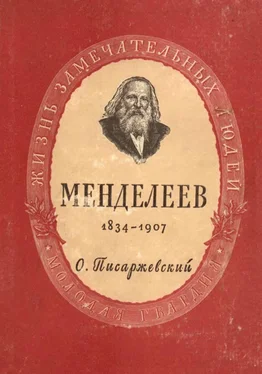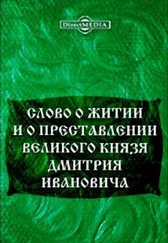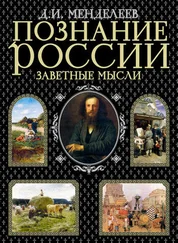По воспоминаниям С. П. Вуколова, Менделеев в 1894 году был вынужден уйти из морского ведомства «из-за несочувственного, я бы сказал, враждебного отношения к его идеям некоторых крупных деятелей морской артиллерии». Вуколов находил этому объяснение «до крайности простое»: «В глазах тогдашних деятелей порохового дела, сухопутных артиллеристов, у Д. И. имелся крупный недостаток: он был штатский человек, не военный, не имевший штампа высшей артиллерийской школы. Они не могли переварить, когда этот чуждый их среде человек со всей горячностью своей пылкой натуры говорил о горении пороха в канале орудия, о причинах ненормальных явлений при стрельбе, приводящих к разрыву орудий, когда он говорил, ничем не стесняясь, о недостатках их пороха, пороха французов, к которым они ездили на поклонение». Все это играло свою роль – и кастовость офицерства и постыдное преклонение перед Западом («как у французов» – была высшая похвала!), но нет никакого сомнения, что судьба пироколлодийного пороха была связана, в конечном счете, с оставшимся неизвестным прямым предательством в руководящих военных кругах. Иначе нельзя объяснить того факта, что в конце девяностых годов, при огромном росте русского флота, морское ведомство, вместо того чтобы расширить свой завод, отдало заказ на порох частному обществу, связанному с крупными германскими фирмами. Внимательный и умный враг использовал все: и продажность чиновников, и кастовость офицерства, и пресмыкательство правящих кругов перед иностранщиной, и презрение их к русской науке. Чья-то сильная рука сумела свернуть производство пироколлодийного пороха в России. Это был меткий и коварный удар!
Во время войны с Германией в 1914 году русское военное ведомство вынуждено было спешно заказывать в Америке несколько тысяч тонн бездымною… пироколлодийного пороха. Американцы не скрывали, кому принадлежал приоритет в изобретении этого пороха, который у них покупали русские. В американских официальных изданиях о пироколлодийном порохе говорилось как о «специальной форме нитроцеллюлозы, отвечающей содержанию азота в 12,44% и впервые разработанной в России знаменитым химиком проф. Д. Менделеевым»…
Случилось то, чего так боялся Менделеев!
XXIV. МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЭРА В МЕТРОЛОГИИ
В ноябре 1892 года Дмитрий Иванович Менделеев принял предложенную ему должность ученого хранителя Депо образцовых мер и весов.
В 1892 году Депо праздновало пятидесятилетие своего существования. Первоначально оно помещалось на территории Петропавловской крепости, в Монетном дворе. Заведывал им академик А. Я. Купфер, после смерти которого обязанности ученого хранителя мер исполнял профессор В. С. Глухов. С 1878 года Депо было переведено в новое здание, выстроенное на Забалканском, ныне Международном, проспекте и приспособленное для лабораторных работ. Это здание и по сей день занимает Всесоюзный институт метрологии, который советские метрологи называют «старшим внуком Депо образцовых мер и весов». В Депо были изготовлены первые образцовые меры длины, в частности отечественный эталон длины – «железная сажень Купфера», меры массы и сыпучих тел. Депо было приспособлено, однако, главным образом к поверке торговых железных саженей, аршинов, футов и различных чугунных гирь. Вступление Менделеева на пост ученого хранителя Депо мер и весов рассматривалось, как его уход от жизни. Но кто так думал, плохо знал Менделеева.
На самом деле он согласился посвятить последние годы своей научной активности такому прозаическому делу, как поверка торговых мер, именно потому, что он был Менделеевым и умел смотреть поверх интересов и потребностей сегодняшнего дня.
Он, как никто, понимал огромное значение порученной ему работы для будущего русской науки. Впрочем, ту работу, которую он нашел для себя в Депо образцовых мер и весов, ему и не поручали. Он сам ее -вызвал к жизни, сам возглавил и направил, руководствуясь высказанным в статье «О приемах точных или метрологических взвешиваний» убеждением, что «в природе мера и вес суть главное орудие познания и нет столь малого, от которого не зависело бы крупнейшее».
Прежде всего, этот бесконечно деятельный и живой ум не мог примириться со званием «хранителя мер и весов». Это звание вызывало мысли о неподвижности, о неизменности хранимого. «Управляющий» – вот это другое дело! И управляющий не «Депо образцовых мер и весов», а «Главной палатой мер и весов». Дату 1 (13) июля 1893 года, когда было утверждено подготовленное Менделеевым «Положение о Главной палате мер и весов», советские метрологи считают началом новой эры в истории русской науки об измерениях – метрологии. Менделееву очень хотелось, чтобы одновременно с утверждением положения о Палате правительство приняло решение хотя бы о подготовке к введению в России метрической системы мер. Но царское правительство не решилось на такой «революционный» шаг, и Менделеев решил действовать в этом направлении по собственному «крайнему разумению».
Читать дальше