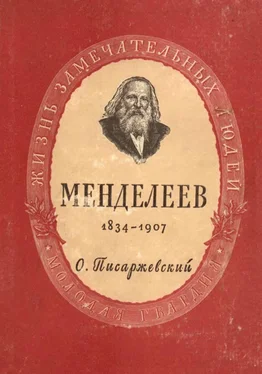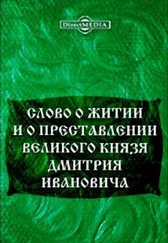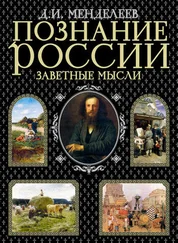Менделеев тщательно экономически обосновывал свои предложения. Из записки видно было, что он уже успел убедить владельца Камских химических заводов П. К. Ушкова строить собственные гончарные заводы для производства посуды под серную кислоту. До тех пор и горшки закупались за границей! Он успел также выяснить у Саввы Морозова, почем тот может поставлять со своих текстильных фабрик так называемые «концы» для производства пироксилина, и т. д. и т. п. Словом, в ав-

торе записки легко было узнать уже хорошо известного нам Менделеева – вдумчивого практика-технолога, блистательного экономгеографа, пламенного патриота своей отчизны. Но в жизненно-важном для обороны вопросе о бездымном порохе он должен был выступить еще и как крупнейший химик своего времени, каким он в первую очередь и был.
Дело в том, что бездымный порох, производство которого налаживал на Охтенском заводе заезжий француз, не мог удовлетворить армию не только по качеству изготовления, но и по своему составу. Здесь нужно несколько остановиться на том, что вообще представляет собой бездымный порох.
Если погрузить бумагу в азотную кислоту, оставить ее там на несколько времени, чтобы она пропиталась, и потом промыть большим количеством воды, то получается непромокаемый в воде пергамент, чрезвычайно легко воспламеняющийся. Этот пергамент представляет собой особый вид пороха, названного пироксилином. В обыкновенном черном порохе, который и до сих пор употребляется для охотничьих ружей, крупинки угля и серы смешаны с селитрой. Селитра наполовину состоит из кислорода. В момент вспышки этот твердый концентрированный кислород освобождается, и уголь в нем сгорает. Давление образующихся при этом газов выбрасывает пулю. Однако черный порох сгорает не целиком – мельчайшие твердые частицы несгоревших его остатков разлетаются из ружья при выстреле в виде дыма. Поэтому такой порох называется дымным. При изготовлении пироксилина кислород, находящийся в кислоте, которой обрабатывается клетчатка, присоединяется к молекулам этой горючей основы. Таким образом, каждая частица пироксилина представляет собой готовый заряд. Пироксилин сгорает тоже за счет своего собственного кислорода, причем быстрее черного пороха и почти нацело. Дыма он не дает. Не нужно пояснять, насколько это важно на войне.
Но первые же попытки замены пироксилином дымного пороха, предпринятые в 1846 году, показали, что с изобретением пироксилина задача создания бездымного пороха не решена, а только поставлена. Пироксилин сгорал слишком быстро. Если заряд был слишком плотен, при выстреле мгновенно развивались такие высокие давления, которые иногда разрывали ружье раньше, чем успевала вылететь пуля. Кроме того, молекулы пироксилина, сами по себе, представляли не очень стойкие химические образования. После того как множество пороховых складов в разных странах взорвалось от самовозгорания пироксилина, непригодность его для военных нужд была признана повсеместно.
Судьба пироксилина изменилась совсем незадолго до описываемых событий, когда в 1885 году удалось замедлить вспышку пироксилина в заряде. Главное неудобство пироксилина состояло в его рыхлости: весь его заряд воспламенялся сразу потому, что при поджигании его накаленные газы мгновенно проходили между слоями заряда. Пироксилин удалось уплотнить с помощью простого приема: его сначала растворили в смеси спирта с эфиром, а затем выпрессовали в виде плотной прозрачной плитки. Теперь уже было легко регулировать горение бездымного пороха: толстые плитки горели медленнее, тонкие – быстрее. В дальнейшем в пороховую массу стали добавлять нитроглицерин. Но получить химически однородные студенистые растворы обработанной кислотой клетчатки в нитроглицерине оказалось трудно разрешимой технологической задачей. К тому времени, когда Менделеев взялся за разработку русского бездымного пороха, ни в одной армии мира не было настолько однообразно действующего пороха, чтобы его можно было уверенно и безопасно употреблять для тяжелых, особенно морских, орудий.
Широкое распространение получила легенда о том, что главной заслугой Менделеева в этой области было остроумное разоблачение им секретного состава одного из лучших европейских порохов того времени – французского.
Эта история обычно излагается так:
Читать дальше