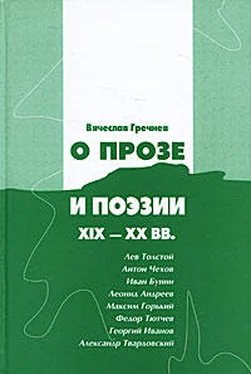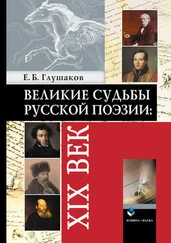Что это — роковая предопределенность судьбы, которую, к тому же, если и не предвидел, то, во всяком случае, предчувствовал герой? Ответить на этот вопрос не просто.
Многое в поведении Егора можно было бы без особого труда объяснить, если бы он был только «пустоболтом», ни к чему не способным и ни на что не годным работником. Но у него, по словам Анисьи, его матери, «золотые руки». Согласны с этим были и односельчане. Находя, что он был похож на отца своего, Мирона: «…такой же пустоболт, сквернослов и курильщик, только подобрей характером», они говорили: «Сосед он хоть куда <���…> и печник хороший, а дурак: ничего нажить не может» (Б, 3, 278). Действительно, у Егора нет вкуса к наживе и, больше того, у него нет вкуса и к жизни в целом, к той жизни, смысл которой сводится к умению «нажить». Он, конечно, не поднимается до осмысления, а тем более критики такого рода положения, но его, пусть и неясные, «думы-чувства» подсказывают ему: как-то скучно и неинтересно живут его односельчане. Эта оценка содержится в его восприятии окружающей действительности, в его взгляде, вроде бы равнодушно фиксирующем все, что «набегает» на глаза: «Церковь в Гурьеве грубая, скучная, какая-то чуждая всему, училище имеет вид волостного правления, ветряк неуклюж, тяжел, работает редко» (Б, 3,297). Всегда голодному и давно больному Егору нельзя рассчитывать на сострадание этих скучно живущих людей, и бедных и богатых его односельчан, только и думающих о еде да наживе. Он и не ждет сострадания и не обижается на них, хотя не может подавить раздражения, как не может и уйти от навязчивого желания осмыслить то самое «что-то» (освободиться от него он сумеет только под колесами поезда).
Довольно сложное отношение Егора к матери. Он не заботится о ней (она умирает от голоду), почти не вспоминает ее, а если и упоминает в разговорах, в «болтовне», то лишь в том смысле, что ожидаемая смерть ее развяжет ему руки, сделает его свободным. На похоронах ее, говорится в рассказе, «…он играл ту роль, что полагалась ему у гроба матери. Он моргал, будто готовый заплакать, кланялся низко <���…> Но далеко были его мысли и, как всегда, в два ряда шли они. Смутно думал он о том, что вот жизнь его переломилась — началась какая-то иная, теперь уже совсем свободная. Думал и о том, как будет он обедать на могиле — не спеша и с толком…
Так и сделал он, засыпав мать землею: ел и пил до отвалу. А под вечер, тут же, у могилы, плясал, всем на потеху, — нелепо вывертывал лапти, бросал картуз наземь и хихикал, ломал дурака; напился так жестоко, что чуть не скончался. Пил он и на другой день и на третий… Потом снова наступили в жизни его будни» (Б, 3, 309).
Трудно подыскать слова, которые с должной точностью квалифицировали бы поведение Егора: святотатство, кощунство, цинизм… Но и ими, пожалуй, во всей полноте нельзя объяснить случившееся. Все это так. Однако нельзя не учитывать, что сцены эти («он играл <���…> роль») происходили на людях, что называется, на миру. Егор, как мы видели, уже с детских лет привык вести эту вторую и совсем не главную для него жизнь. Вел он ее без сознательной на то установки, но довольно последовательно и настойчиво (слова и поступки его, как правило, соответствовали тому, что ждали от него услышать и увидеть, — «плясал всем на потеху», «ломал дурака»).
Мать умерла — и все в нем «переломилось». Выяснилось, что прежде он и не подозревал даже, насколько крепкой была кровная связь его с матерью и что она значила для него, такого беспутного и несчастного, неизлечимо больного, вечно голодного и никому не нужного, «сквернослова» и «пустоболта»:
«Эти будни были уже не те, что прежде. Постарел он и поддался — в один месяц. И много помогло тому чувство какой-то странной свободы и одиночества, вошедшее в него после смерти матери. Пока жива была она, моложе казался он сам себе, чем-то еще связан был, кого-то имел за спиной. Умерла мать — он из сына Анисьи стал просто Егором. И земля — вся земля — как будто опустела. И без слов сказал ему кто-то: ну, так как же, а?
Он не думал об этом вопросе, — только чувствовал его».
И вот уже «в песке билось то, что было за мгновенье перед тем Егором» (Б, 3, 309, 310).
Роковая предопределенность судьбы и редкая, на грани «ясновидения», способность человека предчувствовать ее трагическую развязку привлекают внимание Бунина во многих его произведениях, в частности в упоминавшемся уже рассказе «При дороге». Здесь его также интересует стихия полуосознанных чувств и импульсов, соприкасающихся с биологией инстинктов и эмоциональных токов, властное вторжение их в сферу интеллектуальной жизни, неотвратимо ведущее и приводящее человека к катастрофе.
Читать дальше