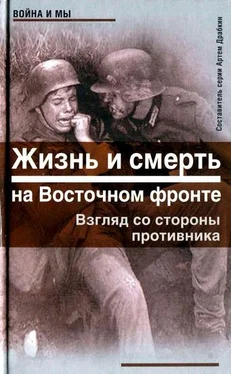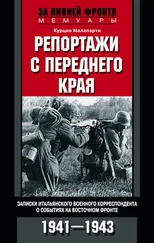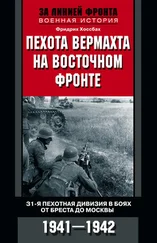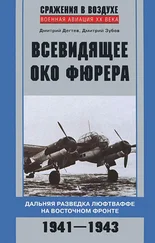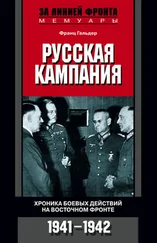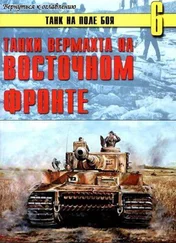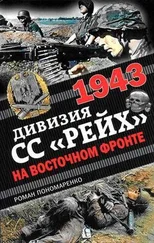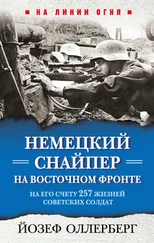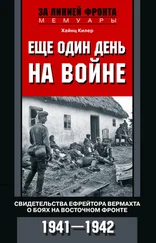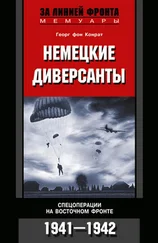В пасхальном письме отцу я сообщал ему о хорошей пасхальной проповеди, прочитанной в швейдницкой приходской церкви проповедником-конфессионалистом. Я полагал, что во время пасхальных праздников у отца должно было быть много работы. В том же письме я напомнил ему о дне рождения матери 11 апреля, так как знал, что отец легко забывал даты таких семейных событий.
На пути из Парижа мне удалось выкроить один день и попасть в Штокерау. Сделать это оказалось легко, потому что армейские эшелоны с отпускниками уходили с Восточного вокзала вечером после 19. 00 с интервалами в 15 минут. На поезд до Бреслау я опоздал. На Вену шло два поезда, из которых один уже ушел. В железнодорожной комендатуре я объяснил ситуацию и доказал, что мне надо было «обязательно» сесть на венский поезд. Вокзальный охранник, старый австрийский резервист, понимающе кивнул головой.
Когда я прибыл в Швейдниц то узнал, что в городе Лигниц внезапно скончался отец моего товарища, лейтенанта Людвига. Вместе с обер-лейтенантом Либигом, который тоже был уроженцем этого города, я отправился туда на похороны. Семья Людвига владела отелем и после похорон все собрались там в небольшом зале. У обер-лейтенанта Либига, бывшего унтер-офицера, дослужившегося до офицерского звания, была в Лигнице жена, но виделся он с ней редко. В Швейднице у него была связь с оперной певицей. Паульхен Фогт обладала слабым голосом, была хрупкого телосложения, но отличалась чудесным характером. В «Марте» она исполняла партию фрау Флют.
Либиг был командиром маршевой роты резервного батальона. В нее попадали все офицеры и солдаты, которые после ранения уже побывали в роте выздоравливающих. Как только их признавали годными для строевой службы, они ожидали там отправки на фронт. Сам Либиг страдал болями в желудке. Он, как и основной командный состав резервного батальона, считался годным для несения тыловой гарнизонной службы. К сожалению, я тоже относился к этой категории. Мне не очень нравилась казарменная жизнь, и я хотел скорее попасть на фронт.
Тем временем я нашел для себя интересное занятие. Меня сделали ответственным за военную подготовку личного состава только что сформированного маршевого батальона. Он состоял из людей, которые по своему возрасту не могли принимать участия в Первой мировой войне. Их призвали совсем недавно. Взводные и ротные командиры не имели фронтового опыта.
Я должен был составлять планы занятий и контролировать процесс обучения личного состава в поле и на стрельбище. В шутку мы называли людей из этих возрастных групп «секретным оружием». Но на самом деле нового оружия, которое должно было решить исход войны и на которое все так надеялись, не было видно нигде.
В своей службе в маршевом батальоне я находился фактически без присмотра. Например, я мог позволить себе продлить обеденный перерыв. Я проводил его в офицерском клубе, после чего мог пойти в кафе. Насколько важными стали для меня эти посещения кафе, я расскажу позднее.
Я как следует узнал командира маршевого батальона, в котором я занимался обучением личного состава. Он был человеком с замечательной биографией. Майор Норберт Фрейзлер родился около 1890 г. в моравском городе Нойтишене. Он уже был офицером в старой австрийской армии. В сентябре 1914 г., в звании обер-лейтенанта, он получил Крест за Военные заслуги 3-го класса, чем явно гордился. Но в это же время он попал в плен к русским и находился в Сибири примерно до 1920 г.
Он был из тех немногих офицеров, которые пошли в чехословацкую армию, или, вернее, тех, которых туда приняли. Ему с трудом удалось дослужиться до штабс-капитана. По его словам, из-за своей немецкой национальности это было самым высоким званием, которое он смог получить. После того как он был принят в ряды Вермахта, ему присвоили звание майора. Благодаря своему превосходному знанию русского языка, он использовался на работе с подразделениями русских добровольцев из состава так называемой «Власовской армии». В рамках этой службы майор Фрейзлер являлся комендантом Лофотенских островов у побережья Норвегии. Он был невысоким человеком с седыми волосами, «крепким» типом с выразительным лицом и живым темпераментом. Ему нравилось беседовать со мной, и он мог рассказывать интересные истории.
Офицерский клуб и столовая находились, как обычно, на территории казарменного городка, отдельное здание с несколькими большими комнатами. Само собой разумеется, к столу можно было подойти только после появления командира, а приступить к ужину — только после того, как он поднимал свою ложку. В то время Германия была первой в мире страной, в которой нормы продовольственного снабжения были одинаковыми как для офицеров, так и для солдат. Но преимущество питания в офицерской столовой было в том, что кухней, как правило, заведовал хороший повар, который мог использовать выдаваемые ему продукты более рационально и готовить вкуснее. Безусловно, еда, приготовленная на 20 или 50 офицеров, была намного лучше и разнообразнее, чем еда, приготовленная на целый батальон.
Читать дальше