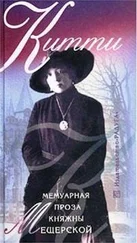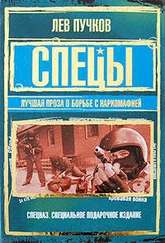Потом я спросил у Ксении и спрашивал у знакомых, чем знаменит усатый господин с багрового плаката. Многие не знали вообще, некоторые "что-то такое смутно припоминали", а самые знающие говорили, что это — актер, который играл какие-то роли в сериалах, но более известный по телевизионной рекламе какой-то фордовской машины, то ли "эскорт", то ли еще какой. На почве интереса к иномаркам произошла его дружба с Наташей, и в отделении милиции, судя по всему, слава его была велика.
Когда радостное волнение улеглось, вежливый милиционер закончил записывать мои показания, дал мне расписаться. Писал он не без ошибок ("прожевает"). Я расписался, посмотрел за окно. Невнятная мразь превратилась в редкий, но настойчивый снег. Ксения сказала: "А неофициально скажите, если бы с вашей мамой или бабушкой такое случилось, вы бы что сделали?" The good сор сказал: "Неофициально? Взял бы слеса'я, взломал бы две'и, и никакая милиция мне ничего бы не сделала. Как и мы для вас ничего не сможем сделать".
Когда мы в сумерках возвращались в Серый Дом, снег валил уже густой. Начался необычный, катастрофический апрельский снегопад в Москве, о котором завтра сообщат во всем мире, из-за которого Лужков пригрозит уволить гидрометцентр, как Ашшурбанипал астрологов. По Тверской мы ехали сквозь сугробы медленно-медленно, и я думал, что главная улица Москвы больше других московских мест не совпала с моей памятью о ней — оказалась значительно уже, некрасивее, чем помнилась. Вывески интернациональных компаний на сталинских домах — как на корове седло. Гостиница "Минск" — когда-то, новопостроенная, она казалась мне шикарным вкраплением Запада — выставилась обшарпанная, нищая, с ее большими окнами, грязными, как окна деревенского газика после долгой поездки по осенним дорогам.
Еще не совсем темнело, когда мы вернулись в Серый Дом, и я долго стоял в своей комнате у окна. За окном — церковь Никола-на-Берсеневке и при ней подворье. Церковь и церковный дом — розовые, купола церкви черные и золотые. Обнесенное стеной четырехугольное пространство завалено густым снегом. Снег продолжал сыпаться. Иногда с засыпанного снегом черного вяза слетала ворона со снегом на крыльях и перелетала на другой вяз. А потом вдруг из церкви вышел монашек и, явно уверенный, что его никто не видит, большими прыжками, взмахивая черными крыльями рясы, заскакал по сугробам. Но не улетел, опять скрылся в церкви.
13 апреля, понедельник
По первоначальному плану сегодня я был бы в Петербурге у друзей, обсуждал бы с издателями "Библиотеки поэта" свои комментарии к Иосифу, на завтра назначено выступление в Ахматовском музее, но первоначальный план пошел прахом. Дома брошена работа, надо срочно возвращаться. Собственно, делать мне в Москве больше нечего, так, разные формальности — заплатить адвокату, составить для нее и для Ксении доверенности на ведение моих дел и т. д. Отправить бандероли с надаренными книгами. Холодный, мокрый, в снежном месиве день. Такая погода стоит в "Московском дневнике" Вальтера Беньямина: "На Тверской, у стены Музея революции, сидели в снегу двое детей, накрытых лохмотьями, и скулили". Перед этим он пишет: "Встречается много нищих. Они обращаются к прохожим с длинными мольбами. Один из них, как только появляется прохожий, на которого он может рассчитывать, начинает тихо выть". Все это сейчас переместилось с улиц в подземные переходы. "Прошли мимо пьяного, лежавшего на тротуаре и курившего". Еще Беньямин пишет о москвичах: "Из-за полной несобранности люди ходят какими-то зигзагами". И еще: видя, до какой степени необязательны москвичи — назначают встречу и не приходят, — он думает: а может быть, они сумасшедшие? Но и сам он хорош, несносный наблюдатель: неловко читать все его страдания из-за жадной сучки, любительницы сладенького, которая иногда дает ему полежать рядом. А эти по-товарищески, по-партийному дружеские записи о кретине и доносчике Билль-Белоцерковском! Зато "пьеса Булгакова — совершеннейшая подрывная провокация". Затмение ума накатило на Беньямина в Москве от болезненной страсти, от желания "примкнуть" и от декабрьской непогоды. А сверх того висит над книгой тень близкой катастрофы — то-то еще будет в Москве и в Берлине через каких-нибудь четыре-пять лет! И Беньямин умрет скорее, чем он думает, ведя свой дневник (а болезненные Ася и Райх, которые так терзают его своими капризами, намного его переживут и даже в относительном благополучии).
Заботливый и обязательный Гандлевский сходил со мной на почту отправить надаренные книги и к нотариусу. Потом обедали у него с Геком Комаровым. Обедали! Гек не ест даже постного, только выпил рюмку водки. Он несколько раз повторил: "Простите эту несчастную страну!" Меня бы кто простил. (Куприна, когда он вернулся в СССР в 1938 году, повели на первомайский парад, он маразматически плакал и приговаривал: "Меня, великого грешника, сама армия простила!") Лена показывала свои работы. По воскресеньям она снимает молодоженов в загсе. Старый алкаш, удавленный галстуком, с крепенькой хищницей делового вида. Необъятно жирная молодка с мелким фиксатым азербайджанцем. И т. п. От своих татарских переулков Гандлевский проводил меня назад к Серому Дому. Заодно и выгулял неизменно оптимистичного белого боксера. На мокром плацу перед москворецкой стеной Кремля под духовую музыку маршировали солдаты, готовились к первомайскому параду. Именно тут веселый боксер вздумал облегчаться, присел над сугробом, справлял свои дела, смотрел на парад и переминался передними лапами в такт "Прощанию славянки".
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу