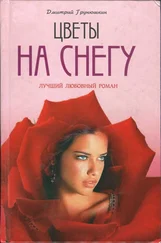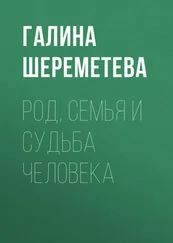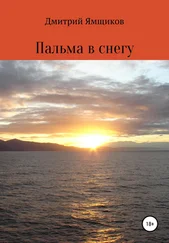Когда я анализирую дальнейшую судьбу своих братьев и сестры, то сколько бы ни убеждала трескучая советская пропаганда в невиданном расцвете страны и народа, но честное слово, не вижу оснований верить этому. Время жестоко побило нас, а самое главное, так и не дало раскрыться полностью возможностям, в нас заложенным.
Итак, вдова с пятью маленькими детьми осталась в бушующем вихре Гражданской войны. Помочь было некому. Хотя многие родственники и друзья отца, занявшие самую выгодную во всех ситуациях позицию нейтралитета, жили неплохо. Мой дед Яков с двумя сыновьями, брат матери, дядька Григорий Сафьян, семья Ставрунов. Многие из них не стали ввязываться в гражданские распри, определив путаницу лозунгов как дело темное, приспособились как прежде под властью казаков. Дед Яков вел хозяйство и потихоньку богател. Ставруны, родственники по линии матери, тоже объявили нейтралитет, подобно сытой Швейцарии. Сначала мужчины из двух их семей ушли воевать за советскую власть — с шумом и помпой, а потом, через недельку, потихоньку возвратились назад, и всю гражданскую войну небезвыгодно приторговывали мясом.
А пушечным мясом, как и в Отечественную войну, становились идеалисты, имевшие представление о долге, чести, общечеловеческом благе. Думаю еще, что именно такой отбор, когда самые лучшие, честные, или просто не привыкшие увиливать, оказывались на линии огня, а хитрозадые при этом всегда выигрывали, сильно опустошил наш позитивный национальный генофонд. Постепенно доблестью стало то, что позволяло сохранить жизнь и не подорвать здоровье: умение сачкануть, увильнуть, обмануть, приспособиться на теплом месте, посмеиваясь над глупостью других. Трудно обвинять в этом людей — ведь лучшие человеческие качества на моей памяти неизменно приносили вред или даже гибель их обладателям. Семьи красноармейцев, погибших за советскую власть, пошедших за лозунгами земли и свободы, погибали в нищете, а те, кто увильнул — процветали. Такое положение стало обычным за десятилетия советской власти: наивные люди, сохранившие веру во что-то или оболваненные пропагандой, становились просто горючим для движения по пути войн и утопических программ. Это недаром сказано о щепках.
В 1918 году, мать решила отдать меня учиться в школу. Для иногородних она была своя, а дети казаков ходили в «казачью» школу. Школа для иногородних плохо отапливалась, классы были переполнены — по 50–60 учеников в каждом. А потом нашу школу и вовсе закрыли: помещение отдали под госпиталь для больных казаков. Спустя полтора месяца занятия возобновились. Но наша иногородняя школа занималась во вторую смену, после обеда. Преподавателей не хватало, в классах по-прежнему было холодно. Так учились дети крестьян-бедняков, рыбаков и мелких ремесленников. Дети людей позажиточнее учились в коммерческой школе — хорошем здании, с теплыми классами и постоянным штатом учителей. Они были хорошо одеты и выглядели сытыми. Все это, конечно, очень озлобляло наши, бедняцкие, маленькие сердца и души. Впрочем даже в школе для иногородних случалось разное. Однажды я пришел в школу, не позавтракав, поесть дома было просто нечего. На большой перемене, когда живот подвело от голода, с понятным интересом наблюдал как мои одноклассники перекусывают бутербродами с колбасой и салом. Не выдержав, я решил попросить кусочек хлеба у одноклассника побогаче, сына крупного хуторянина Никонцова. В ответ он довольно сильно ударил меня ногой в живот и прогнал заявив:
«Нечего христорадничать — нужно иметь свое».
Придя домой, я рассказал об этом случае матери, которая заплакала и сказала, чтобы я больше ничего не просил у этих проклятых паразитов, у которых есть земля, хутор и отец, а у нас нет ничего.
Вот это презрение к бедняку, стремление не просто держать его в рамках, а и буквально сжить со свету, со стороны зажиточной части населения (ведь вряд ли мальчик Никонцов поступил бы так без соответствующего семейного воспитания) и подготовили почву для всех дальнейших сталинских побед в борьбе с крестьянством.
Да, перед нашим народом многие виноваты, но и он сам должен много понять, чтобы не допустить возникновения поставленной на автомат системы самоистребления. И потому, когда в 1929 году, во время первой волны раскулачивания, мне комсомольцу — рабочему, вручили в райвоенкомате трехлинейку с примкнутым штыком, но без патронов (обычный уровень организации, даже на войне бывало такое, да и, видно, боялись доверять оружие для сомнительного дела — вдруг повернут), то я, особенно услышав среди предназначенных к «ликвидации как класс» фамилию Никонцовых, ни секунды не сомневался в справедливости происходящего. Не берусь оценивать свое душевное состояние с точки зрения общечеловеческой морали, но советую попробовать поставить себя на мое место тем публицистам, которые сегодня бьются над очень непростыми вопросами: как же все это могло произойти в нашей истории? Почему ответом на варварские массовые акции против крестьян не поднялось всенародное восстание, как предсказывали на Западе?
Читать дальше