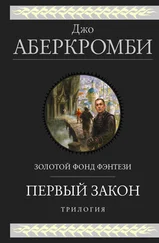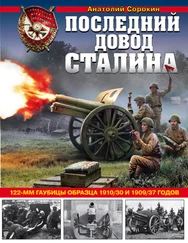Резюмируя вышесказанное, следует сделать вывод, что штурм Зееловских высот был неизбежным злом. Этот опорный пункт был ключом к Берлину: взяв его, советские войска выходили в тыл 4-й танковой и 9-й армий, отсекая их от немецкой столицы. Жуков сделал обычный для полководца, но трудный для человека выбор. Он сознательно пошел на большие потери в штурме высот ради снижения потерь и быстрого выполнения задач в Берлинской операции в целом.
Вообще говоря, о боях за Зееловские высоты нужно помнить две вещи. Во-первых, на высоты опиралась не первая, а вторая полоса обороны. Соответственно, ее огневое поражение в первой артиллерийской подготовке было слабее. Получасовая артиллерийская подготовка на 1-м Белорусском фронте была лишь прелюдией к артиллерийскому сражению первого дня операции. Метать бисер перед первой полосой обороны было совершенно ненужно. Когда в атаку поднялась пехота, то ее поддержал огневой вал. Затем артиллерия перешла к поддержке методом последовательного сосредоточения огня. Также артиллерия работала по заявкам тактических командиров. Поэтому, несмотря на кажущуюся слабость артподготовки (30 минут), 1-й Белорусский фронт израсходовал в первый день операции 1 236 000 снарядов, на 100 000 снарядов больше, чем было запланировано. То, что В. Сафир назвал «абсолютно неподавленной обороной», на самом деле было частями и соединениями, на которых обрушили больше миллиона снарядов, или 17 тыс. тонн металла. К этим тоннам прибавила 1514 тонн авиация фронта, выполнившая 6550 самолетовылетов. Бои за высоты продолжались не неделю, а всего два дня. Взломать обе полосы обороны немцев, готовившиеся с февраля 1945 г., за один день было бы большой удачей. [391]
Ввод танковых армий в бой за вторую полосу обороны не был каким-то исключительным событием. Значительная часть операций с участием танковых армий проходила именно с вводом в бой, а не в прорыв. Например, в ходе наступления на харьковском направлении в августе 1943 г. 1-я танковая армия М. Е. Катукова (тогда еще не гвардейская) была введена в бой за вторую полосу обороны, а не в чистый прорыв. Заметим, что Г. К. Жуков был сторонником ввода эшелона развития успеха в лице танковых армий в чистый прорыв. Однако [392] в Берлинской операции буквально в первые часы наступления отказался от такой схемы.
Второе, что необходимо помнить о Зееловских высотах, – это высокая плотность обороны и близко расположенные резервы. Фактически они были «Курском наоборот», причем аналогом не южного, а северного фаса дуги. По иронии судьбы, та же немецкая 9-я армия летом 1943 г. наступала на северный фас курского выступа. Если в ходе боев на территории СССР имел место широкий фронт от Ладожского озера до Черного моря, на котором всегда можно было найти уязвимую точку, то в 1945 г. в Германии фронт сузился, а плотности обороны значительно повысились. В 1943 г. был коридор между крупными лесными массивами на северном фасе Курской дуги, позволивший войскам Центрального фронта нарастить плотность войск. Так же как под Курском, имел место довольно долгий период стабилизации фронта перед Зееловскими высотами, позволивший противнику усилить оборону.
Оперативная плотность войск в 175-километровой полосе 1-го Белорусского фронта составляла 7 км на дивизию, а на 44-километровом фронте Кюстринского плацдарма доходила до 3 км на дивизию. Для сравнения: оперативная плотность немецких войск в полосе 1-го Украинского фронта составляла 13 км. При этом многие дивизии на берлинском направлении к началу советского наступления были пополнены до высокого уровня комплектности. Так, например, 9-я воздушно-десантная дивизия генерала Бруно Брэуера насчитывала на 8 апреля 11 600 человек. Ее «боевая численность» {192}составляла 6758 человек, что было наилучшим показателем среди немецких соединений 9-й армии. [393]
Причем название «воздушно-десантная» было скорее признаком принадлежности части личного состава соединения к Люфтваффе. По своей организационной структуре она была подобна пехотным дивизиям. Еще одно соединение, 169-я пехотная дивизия, было извлечено с дальней полки. Она несла службу с 1941 г. в Норвегии и Финляднии и прибыла на фронт только в марте 1945 г. Свежесформированная 303-я пехотная дивизия получила боевой опыт в боях на Кюстринском плацдарме в феврале 1945 г.
Пополнения также получили пехотные дивизии 9-й армии. «Боевая численность» 169-й пехотной дивизии составляла 5956 человек, а 303-й пехотной дивизии – 3860 человек. Для сравнения достаточно сказать, что в то время, когда 9-я армия под командованием В. Моделя летом 1943 г. собиралась наступать на северный фас Курской дуги, средняя «боевая численность» ее соединений составляла всего 3296 человек. На каждый километр фронта XI танкового корпуса СС, оборонявшегося перед Кюстринским плацдармом, приходилось 12 стволов артиллерии, включая поставленные на прямую наводку зенитки и три танка, «Штурмгешюца» или истребителя танков. «Крепким орешком» стали даже пехотные дивизии, сменившие буксируемые 75-мм противотанковые пушки на полностью бронированные САУ «Хетцер». Например, в 9-й воздушно-десантной дивизии было 8 «Хетцеров», а в 169-й пехотной дивизии – 10. «Хетцеры» в отличие от буксируемых пушек и даже 88-мм зениток были более устойчивы к ударам с воздуха и артиллерийскому огню, выкашивающему не защищенные броней расчеты. Немцы всерьез приготовились к последнему бою, собрав все мыслимые и немыслимые резервы и приготовив новейшие образцы вооружения и техники.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
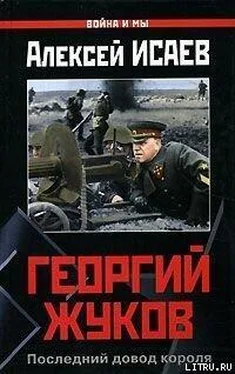
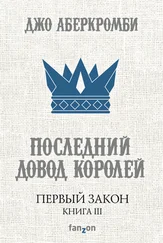
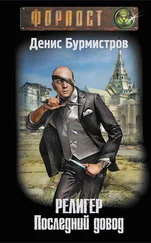

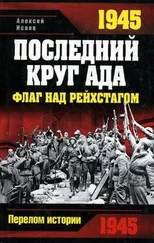

![Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/298692/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl-thumb.webp)
![Виктор Перестукин - Последний довод главковерха [СИ]](/books/409521/viktor-perestukin-poslednij-dovod-glavkoverha-si-thumb.webp)