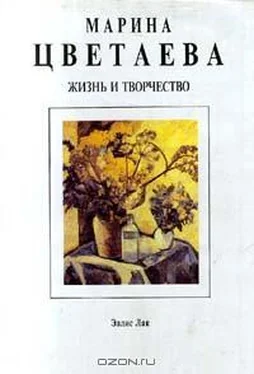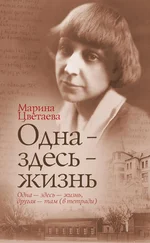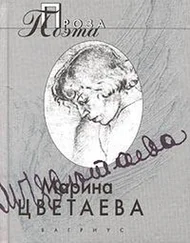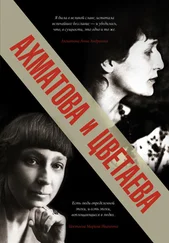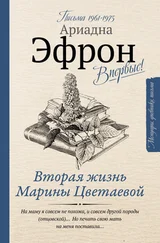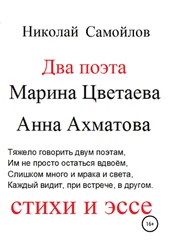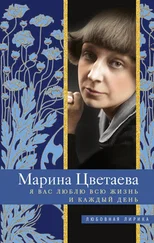Весна будоражит; она же моментами навевает тоску. Героиня юной Цветаевой борется с сумбуром в собственной душе, что отражено в сильном для того времени стихотворении "Пасха в апреле":
В небе, как зарево, вешняя зорька,
Волны пасхального звона…
Вот у соседей заплакал так горько
Звук граммофона,
Вторят ему бесконечно-уныло
Взвизги гармоники с кухни…
Многое было, ах, многое было…
Прошлое, рухни!..
От сердечных переживаний Цветаеву, по воспоминаниям ее сестры, несколько отвлекла встреча с художником, знавшим когда-то в Париже… саму Марию Башкирцеву, автора знаменитого "Дневника".
Мария Башкирцева. Русская художница (жила с десяти лет за границей), умершая от чахотки в 1884 году, не дожившая нескольких дней до двадцати четырех лет. Не по возрасту аналитический ум сочетался в ней с громадной работоспособностью и волей к труду. Свое образование Башкирцева осуществляла по собственной программе. Философия, литература, история, искусства… Она безумно боялась не успеть все узнать, все охватить, потерять время даром. Свою раннюю смерть предвидела еще в отрочестве, притом лечилась плохо и недомогания скрывала. Мечтала о большой любви, тщетно старалась внушить ее себе; должно быть, помеха этому была в ее великой поглощенности собственной персоной, в бесконечной рефлексии, в самоанализе, переходящем в любование собой. Мечтала о мировой славе и французский "Дневник" свой вела с тою же целью; он действительно снискал ей широкую известность (посмертную). Цветаева могла читать его и в подлиннике, и в переводе, так же как и переписку Башкирцевой с Мопассаном; вероятно, ей была известна и книга Герро о Башкирцевой, вышедшая в 1904 году. Анастасия Цветаева вспоминает, что ее сестра начала переписку с матерью Башкирцевой, — так захватила ее трагическая личность молодой художницы.
Цветаева с Башкирцевой, несомненно, во многом были схожи — в этом убеждаешься, когда читаешь дневник Башкирцевой. Кумир, на которого похож ты сам, — что может быть отраднее этого сознания в юные годы? Однако влияние Башкирцевой на Марину Цветаеву скажется позднее — в юношеских стихах 1913–1914 годов…
* * *
Летом Цветаева с отцом и младшей сестрой уезжают в Германию. Первая любовь еще не до конца "растаяла" в ее душе, а будущее виделось туманно:
Сильнее гул, как будто выше — зданья,
В последний раз колеблется вагон,
В последний раз… Мы едем… До свиданья,
Мой зимний сон!..
……………………………………
Что новый край? Везде борьба со скукой,
Всё тот же смех и блестки тех же звезд.
И там, как здесь, мне будет сладкой мукой
Твой тихий жест.
("Привет из вагона", 9 июня 1910 г.)
Лето в Германии, в маленьком городке Вайсер Хирш под Дрезденом Марина и Ася живут в семье пастора, в то время как Иван Владимирович работает в хранилищах Берлина и Дрездена, собирая "содержимое" для своего будущего музея на Волхонке.
Из написанного в Германии наиболее интересно стихотворение "Оба луча". Солнечный и лунный-какой предпочесть? "Луч серебристый молился, а яркий Нежно любил".
Солнечный? Лунный? Напрасная битва!
Каждую искорку, сердце, лови!
В каждой молитве — любовь, и молитва —
В каждой любви!..
"Буду любить, не умея иначе, — Оба луча!" — так кончается стихотворение. Его тема — никогда не встречающихся Солнца и Луны — станет центральной в поэме "Царь-Девица" (1920 г.).
Кончилось лето, но не остыла любовь. Двадцать седьмым августа помечено стихотворение "Правда".
Нас разлучили не люди, а тени,
Мальчик мой, сердце мое!..
* * *
После приезда из Германии Марина Цветаева начала свой последний учебный год в седьмом классе гимназии М. Г. Брюхоненко.
"Это была ученица совсем особого склада, — вспоминает ее одноклассница Т. Н. Астапова. — Не шла к ней ни гимназическая форма, ни тесная школьная парта… Из ее внешнего облика мне особенно запечатлелся нежный, "жемчужный", цвет лица, взгляд близоруких глаз с золотистым отблеском сквозь прищуренные ресницы. Короткие русые волосы мягко ложатся вокруг головы и округлых щек. Но, пожалуй, самым характерным для нее были движения, походка — легкая, неслышная. Она как-то внезапно, вдруг, появится перед вами, скажет несколько слов и снова исчезнет. И гимназию Цветаева посещала с перерывами: походит несколько дней, и опять ее нет. А потом смотришь, вот она снова сидит на самой последней парте (7-й в ряду) и, склонив голову, читает книгу. Она неизменно читала или что-то писала на уроках, явно безразличная к тому, что происходит в классе; только изредка вдруг приподнимет голову, заслышав что-то стоящее внимания, иногда сделает какое-нибудь замечание и снова погрузится в чтение".
Читать дальше