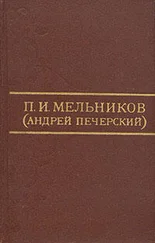В Сорренто, в доме Горького, однажды на закате солнца Алексей Максимович заговорил о Шаляпине.
Он вспомнил, что слышал его в последний раз в 1931 году, в Риме.
Шаляпин приехал в Рим и позвонил по телефону Алексею Максимовичу — предстояло выступление артиста в «Борисе Годунове», и он пригласил Горького в театр.
Это был один из триумфальных спектаклей Шаляпина. Он пел Бориса по-русски, зал был переполнен экзальтированными итальянцами и иностранными туристами, главным образом англосаксами. Но восторги англичан и американцев сравнились с восторгами и овациями итальянцев. В сцене галлюцинаций, когда Шаляпин, приподнимаясь, глядел туда, где ему мерещилось «дитя окровавленное», зрители, потрясенные до глубины души, тоже приподнимались с мест и глядели в ту сторону, куда смотрел расширенными от ужаса глазами Шаляпин.
После спектакля Алексей Максимович, его близкие вместе с Шаляпиным отправились в старинный ресторан Рима, так называемую «Библиотеку». Шаляпин был в ударе, он радовался встрече с Горьким, до поздней ночи они оставались в «Библиотеке», Шаляпин припоминал любимые рассказы Алексея Максимовича и передавал эти рассказы с обычным блеском прекрасного комедийного актера. Потом он запел, и все, кто был в ту ночь в «Библиотеке», столпились у стола, восхищенные этим неожиданным и чудесным концертом великого русского певца…
Это была последняя встреча Алексея Максимовича с Федором Шаляпиным.
Горький не раз вспоминал о том, как Шаляпин в первый раз пел в Милане, в театре «Ла Скала», и как высокомерные знатоки говорили: «Привозить русского певца в Италию — все равно, что ввозить в Россию пшеницу». Потом эти же высокомерные знатоки сходили с ума по Шаляпину, и опера Бойто «Мефистофель», никогда не имевшая успеха, получила признание благодаря Шаляпину, и великий тенор Мазини поцеловал артиста после его дебюта в этой опере. И такой триумф произошел в театре, где ценители оперы семьями, из поколения в поколение, бывают в одних и тех же ложах.
Когда Горький говорил о Шаляпине-артисте, в его голосе звучала теплота и нежность. Это было восхищение чудесным даром художника.
В тот вечер у Горького на столе появился граммофон, шаляпинские пластинки, и через минуту голос Шаляпина торжественно и свободно звучал над кипарисами и лаврами, над тихим садом виллы «Эль Сорито».
— Видите ли, что сделал этот человек, — сказал Горький, — этот человек грустную нашу волжскую песню «Эй, ухнем» заставил слушать здесь, в Италии, где любили только сладостные неаполитанские песенки, и в Лондоне, и в Чикаго, и в Австралии. И слушают, и ведь как нравится!.. Моряки наши приезжали и рассказывали: как-то зашли они чинить корабль на коралловый остров где-то на краю света, в Океании, где люди ходят, как в раю, почти голыми, и вдруг услышали родное волжское — «еще разик, еще раз…» Услышали Шаляпина, то есть пластинку, конечно. Русскую песню пронести через весь мир, да еще со славой — это мог только Федор, только русский гений. Вот она, сила искусства.
И в Москве, на подмосковной даче, в минуты раздумья, когда затихала беседа, Горький вдруг просил принести граммофон, и вновь звучал голос человека, с которым связано столько воспоминаний молодости, столько разговоров об искусстве, о будущем народа, будущем человечества.
Редкого человека так знал и любил Горький, как Шаляпина, и редкого человека так печалил Шаляпин, как Горького. И как бы ни любил Горький Шаляпина-артиста, он был суров и неумолим к нему как человеку и, когда это было нужно, возвышал свой голос и говорил артисту правду в лицо, корил его в глаза.
Сначала он прощал Шаляпину его страсть приобретать, он видел в ней тоже своего рода озорство, чудачество большого человека. Временами эта жажда приобретательства действительно имела вид чудачества, когда Шаляпин покупал острова, голые скалы.
— Скалы я вообще покупаю! — говорил он с горящими в азарте глазами.
У него была вилла в Сан-Жан де Люс у Пиренеев, доходный дом в Париже на авеню Прейсиш-Эйлау, земля в Тироле, где он хотел построить усадьбу в стиле русского ампира.
Эти чудачества можно простить, но порой ради денег он шел на унижение своего артистического достоинства, своего имени, сочинял хитроумные контракты, играл на бирже, смертельно боялся разориться и дважды разорялся, теряя почти все, что заработал, странствуя из конца в конец света.
Эти свойства характера, проявившиеся еще в молодые годы, со временем превратились почти в маниакальную страсть. Приятели Шаляпина, зная эту его слабость, сначала подшучивали над ней, но он приходил в ярость, бранился и ссорился с ними, и в конце концов происходил разрыв, если приятели не мирились с этой чертой характера артиста.
Читать дальше
![Лев Никулин Фёдор Шаляпин [Очерк жизни и творчества] обложка книги](/books/23869/lev-nikulin-fedor-shalyapin-ocherk-zhizni-i-tvorchestv-cover.webp)





![Игорь Белецкий - Антон Брукнер 1824 - 1896 Краткий очерк жизни и творчества [Популярная монография]](/books/206728/igor-beleckij-anton-brukner-1824-thumb.webp)