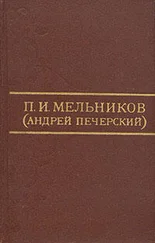«За обедом, ужином, в дружеской беседе он охотнее всего говорит, спорит о своих ролях».
«Я не знаю артиста, который бы работал больше, чем этот баловень природы и судьбы».
Люди искусства, литераторы, которым приходилось беседовать с артистом, вспоминают его долгие споры, суждения о том, как надо спеть ту или иную фразу, каким жестом надо подчеркнуть ее смысл. Любая застольная беседа в бессонную ночь превращалась в диспут об образе Мефистофеля, о том, как надо пропеть фразу из «Моцарта и Сальери», драгоценный пушкинский стих. И потому правильно такое, казалось бы, парадоксальное утверждение: у Шаляпина не было свободного времени, потому что все свое «свободное» время он был занят самой важной для себя работой: думами о том, как воплотить тот или иной образ, как изменить прежнее толкование роли и найти новое, более яркое, более глубокое и правдивое. Эти размышления и беседы артиста о своей работе были интересны для каждого, кому пришлось их слышать.
Во многих главах своей книги, посвященных искусству пения, он развивает основные положения своего блестящего творческого опыта:
«… Всякая музыка всегда так или иначе выражает чувства, а там, где есть чувство, механическая передача оставляет впечатление страшного однообразия. Холодно и протокольно звучит эффектная ария, если в ней не разработана интонация фразы, если звук не окрашен необходимыми оттенками переживаний».
Это требование — разработку интонации фразы — Шаляпин считает обязательным при исполнении русских опер. «В этой интонации нуждается и западная музыка, хотя в ней меньше, чем в русской, психологической вибрации. Этот недостаток — жесточайший приговор всему оперному искусству. Это сознание у меня нс ново. Оно мучило меня долгие годы».
Здесь особенную ценность для нас имеет замечание Шаляпина о высоком достоинстве русской оперной музыки, которое он называет «психологической вибрацией». Иными словами, он говорит о глубокой содержательности музыки, об особом даре русских композиторов выразить в звуках характер действующего лица, его психологию, его духовную сущность. В западной оперной музыке подобной содержательности и психологического проникновения, умения выразить в звуках образ героя почти нет, и потому мастер интонации, артист, поразительно передававший в звуках переживания действующего лица, Шаляпин достигал полного совершенства именно в русских операх.
«Можно по-разному понимать, что такое красота… Но о том, что такое правда чувства, спорить нельзя… Двух правд чувства не бывает. Единственным правильным путем к красоте я потому принял для себя правду».
На этом пути к красоте и правде формировался творческий метод артиста. Позднее Шаляпин сделал интересную попытку рассказать о нем.
«Как возникает и формируется сценический образ, можно сказать только приблизительно…» — начинает артист.
И Шаляпин довольно подробно рассказывает, от чего он отталкивался в начале своей работы.
Принесли партитуры оперы, он прежде всего знакомится с действующим лицом, которое ему надо воплотить на сцене: «Хороший или дурной, добрый или злой, умный, глупый, честный, интриган или сложная смесь всего этого…»
Шаляпин старается правильно прочитать произведение:
«Я должен выучить все роли, не только свою роль, — все роли до единой… Реплику хориста, и ту надо выучить… В пьесе надо чувствовать себя как дома. Больше, чем как дома».
Он утверждает, что надо знать произведение от первой ноты до последней:
«Не зная произведения от первой ноты до последней, я не могу почувствовать вполне и стиль того персонажа, который меня интересует непосредственно… Усвоив все слова произведения, все звуки, продумав все действия персонажей, больших и малых, их взаимоотношения, почувствовав атмосферу времени и среды, я уже достаточно знаком с характером лица, которое я призван воплотить на сцене… Словом, я его знаю так же хорошо, как знаю школьного товарища…»
Шаляпин, гениальный реформатор русского искусства, был яростным противником всякого формализма.
Каждый образ, созданный им на сцене, был вызовом теории «искусства для искусства» и сокрушал всякого рода формалистические изыски.
Он ценил благородные традиции русского оперного искусства:
«О традиции в искусстве можно, конечно, судить разно. Есть неподвижный традиционный конец, напоминающий одряхлевшего, склерозного, всяческими болезнями одержимого старца, живущего у ограды кладбища. Этому подагрику давно пора в могилу, а он цепко держится за свою бессмысленную, никому не нужную жизнь… Не об этой формальной и вредной традиции я хлопочу. Я имею в виду преемственность живых элементов в искусстве… Прошлое нельзя просто срубить размашистым ударом топора…»
Читать дальше
![Лев Никулин Фёдор Шаляпин [Очерк жизни и творчества] обложка книги](/books/23869/lev-nikulin-fedor-shalyapin-ocherk-zhizni-i-tvorchestv-cover.webp)





![Игорь Белецкий - Антон Брукнер 1824 - 1896 Краткий очерк жизни и творчества [Популярная монография]](/books/206728/igor-beleckij-anton-brukner-1824-thumb.webp)