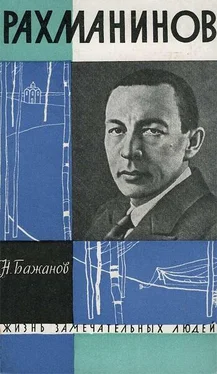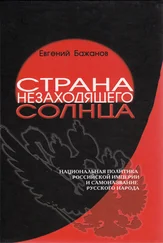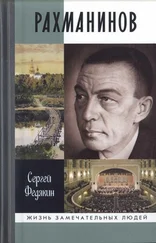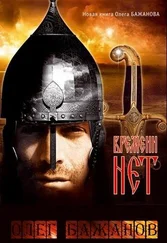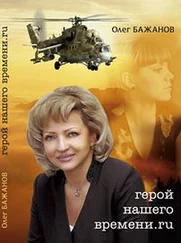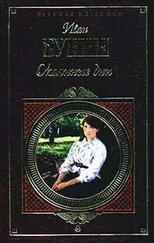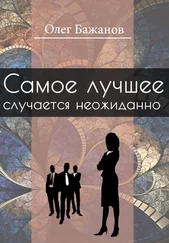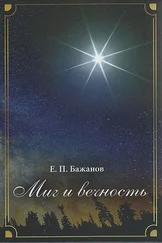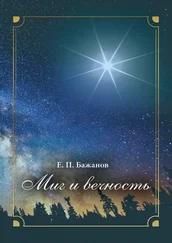Медленно плыли серые облака, шли плоты на Ладогу, лениво перекликались плотовщики, на песчаной косе ниже моста девки мочили лен — запоют и примолкнут, в слободах на Торговой стороне стучали бочарные молотки. По праздникам гудели, трезвонили колокола. Звуки неслись неудержимой стремительной лавой, будя вековой сон. От звона дрожал, сверкал и искрился холодный застывший воздух. И вновь на море крыш, колоколен и облетевших садов ложилась дремота.
Пониже Софии у кремлевской стены стояла белая башня Часозвоня. Колокол ее, чистый и сладкозвучный, словно стеклянный, не похож был на тот, чей хриплый, надтреснутый рев покрывал когда-то неистовый гам новгородского торжища, истошные голоса вечевых крикунов и буянов. Чинно, с равнодушной кротостью отзванивала Часозвоня часы, недели, века…
— Оскудел еси сердцем и разумом. Спал еси с голосу великий и честный Господине! — кричал с амвона еще в петровские времена мятежный раскольничий протопоп Анания.
Только по воскресным дням на папертях Юрьева монастыря, как из-под пепла, вырывалась накипь ушедших веков. Вопили калики, юродивые, плакали бродячие слепцы гусляры, поводыри вторили фальцетом, гнусили и причитали ханжи и святоши.
Среди этой босой, рваной, наглой и довольно буйной орды таилось и горе людское, которому нет ни конца, ни исхода. Оно не вопило и не причитало, а молча глядело на вас в упор сухими, горящими глазами. Тут часто видели высокого щетинистого человека в полукрестьянской одежде с пристальным взглядом немного колючих голубых глаз. Он прислушивался и приглядывался. Бесстрашно садился на паперти среди этой голытьбы. Не глядя на погоду, шагал (как говорили, «шнырял») по деревням и выселкам, разыскивал самых древних стариков и покрытых мохом старух и заставлял их петь и сказывать. Не раз его таскали к уряднику и к становому. Он назывался Иваном Трофимовым Рябининым, показывал какие-то бумаги и был отпускаем с миром.
Побывал Рябинин и у бабушки Бутаковой. Показывал свои новые записи из Заозерья, напевал тихим «душевным» голосом, подыгрывая себе на маленьких гуслях-самогудах. С нежностью вглядывался в Сережу. Острые глаза гусляра лукаво поблескивали из-под косматых бровей. Пел он, легонько раскачиваясь в такт влево и вправо.
Жил Святослав девяносто лет,
Жил Святослав да переставился.
Оставалось от него чадо милое,
Молодой Вольга да Святославгович…
Гостя у бабушки, Сергей зимой часто садился за фортепьяно. Иногда играл упражнения, а иногда о чем-то задумывался. Задумавшись, глядел в окошко на тихий зимний день, на кусты, деревья и снежные крыши в легком голубом дыму.
Еще день-другой, и сказке конец. Из Онега Новгород всегда казался сном. А каков он был наяву и что за жизнь там, за стенами андреевского дома, Сережа не знал, потому что был слишком счастлив. Счастье это, как цветные стекла в окнах бабушкиной спальни, до поры заслоняло от него свет, и лишь раз-другой покой души его был поколеблен.
Однажды очень ранней и непогожей весной в дороге с Ульяшей и Гаврилой Олексичем, не доезжая острога, обогнали «кандальную артель». Шли вперевалку, не торопясь, в грубых арестантских сермягах, молча месили мокрыми постолами снег, перемешанный с грязью. Когда Сережа глянул в лица этих людей, синевато-белые, до глаз заросшие колючей щетиной, в глаза пустые и равнодушные, кровь на минуту остановилась в его жилах. Олексич тихонько свистнул. Возок покатился.
Выехав на пригорок, Гаврила пустил лошадей шагом.
— Не по правде живем! Не по правде… — неожиданно и загадочно прогудел он себе под нос.
Бывало с Сергеем так: подхватит на лету непонятную для него фразу и твердит ее про себя несколько дней сряду, как скворец, без всякого толку. Иногда к словам приплеталась какая-то мелодия. Так и на этот раз: «не по правде» долго звучало ему во сне и наяву, как припев будто бы знакомой песни. На звук ее сердце сжималось томительной жалостью. Ему хотелось спросить у Олексича: а как же «по правде»?.. Но он так и не решился.
В другой раз он подслушал взволнованный разговор бабушки с заезжим учителем из деревни Старый Медведь на Ильмене. Учитель был худ, краснонос, бородат и сам походил на рыжего, вконец захирелого медведя. Он непрестанно кашлял, обжигаясь горячим чаем, и горько жаловался на что-то бабушке. Разводил огромными узловатыми руками, лезущими из куцых обтрепанных рукавов, все повторяя: «Горе идет. Горе, бесценная София Александровна… Нужда лютая…»
Читать дальше