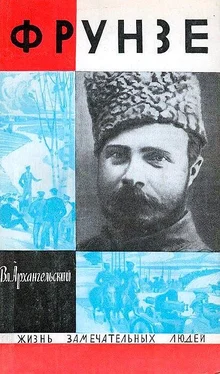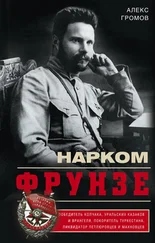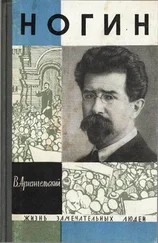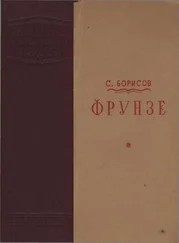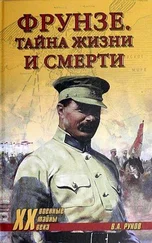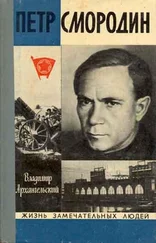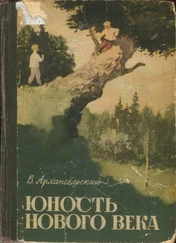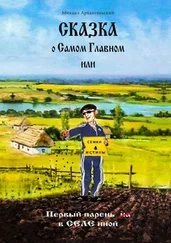К сожалению, курса он не вел и ограничился лишь вступительной речью, которая привлекла студентов всех курсов и почти поголовно всех профессоров.
Кто умел смотреть, тот видел терновый венец подвижника и мученика на массивной голове Менделеева. Пятнадцатый год он был без кафедры: в 1890 году он демонстративно оставил Петербургский университет из-за конфликта с министром народного просвещения Деляновым: во время студенческих волнений тот отказался принять от Дмитрия Ивановича петицию студентов.
Встретили Дмитрия Ивановича у подъезда бурей аплодисментов, грохотом оваций проводили в зал до кафедры и долго не давали говорить. И умолкли лишь после первых слов Менделеева:
— Не будем раздражать институтского пристава! А то он лишит меня слова!
Дмитрий Иванович в тот год писал свои «Заветные мысли», которым суждено было стать его завещанием новому поколению. И посвятил свою речь народному образованию. Нельзя вырвать Россию из мрака патриархальщины, если мы не раскроем двери наших учебных заведений перед рабочим и крестьянином и не подадим руку нашим девушкам, которым давно уготовано историей место рядом с нами в университетах и в практической деятельности на производстве!..
Под стать маститому Менделееву говорили и его младшие товарищи: ученые и практики одновременно, презиравшие кабинетную науку. Молодой Александр Александрович Байков с успехом применял на заводах свои блестящие выводы о превращениях в металлах и свою теорию металлургических процессов. Михаил Александрович Павлов был прекрасным знатоком доменных печей и недавно применил в них горячее дутье. А у Михаила Андреевича Шателена в электротехнической лаборатории можно было работать как на действующем предприятии, а сверх того проектировать первые в России гидроэлектрические станции.
Но любому вдумчивому студенту бросалась в глаза институтская неправда. У Шателена бережно хранились десятки проектов, составленных крупными учеными и инженерами. Он показывал первые наброски Ф. А. Пироцкого, который еще тридцать лет назад выдвинул проект преобразования водной энергии в электрическую. И рассказывал о заманчивом плане H. Н. Бенардоса — построить гидростанцию на Неве, у Ивановских порогов. И раскрывал удивительно смелый проект В. Ф. Добротворского, по которому можно было строить мощные станции на водопаде Большая Иматра и на Волхове.
Но проекты лежали в шкафах Шателена, и к ним добавлялись студенческие наброски. А в России действовали две маленькие гидростанции: одна на реке Охте в Петербурге, другая на реке Подкумок, она называлась «Белый Уголь» и подавала свет курортам на Минеральных Водах.
Только что объявил о своих лекциях Николай Иванович Кареев, и первокурсники с нетерпением ждали, когда он появится на кафедре.
Об этом профессоре много говорили, и Михаил уже знал о нем кое-что: ему пятьдесят четыре года, сединой и осанкой он похож на своего покойного друга Ивана Сергеевича Тургенева. Но человек живой и экспансивный, с хорошо поставленным баритоном и виртуозной ораторской манерой.
Он был в фаворе у самых передовых студентов института. Карл Маркс и Фридрих Энгельс считали его сочинения о французских крестьянах конца XVIII столетия превосходными, исполненными блеска, по методике исследования и по фактам, мало знакомым даже парижским академикам. Правда, другую его книгу, «Основные вопросы философии истории», не так давно раскритиковал Георгий Плеханов за неумение провести резкую грань между марксизмом и экономическим материализмом. Однако это почти не уменьшило сияния его ореола: он считался оригинальным мыслителем, не развращенным верноподданническими чувствами. И конечно, никто не знал, что этот «молодой» и блестящий старец через два-три года станет одним из идеологов новой кадетской партии.
Вроде бы все шло удачно. Нет-нет да и появлялись в институте новые профессора с огромными заслугами в отечественной и в мировой науке. У металлургов произнес вступительную лекцию корифей русского металловедения, основоположник термической обработки стали Дмитрий Константинович Чернов — отец булатной стали. Шателен пригласил к электротехникам изобретателя радио Александра Степановича Попова. После лекции пошли вместе с ним в соседний Лесной институт, на метеорологическую станцию. Там наблюдали действие грозоотметчика: он записывал сигналы на ленту телеграфного аппарата Морзе.
— Это, господа, моя живая модель регистрирующей приемной радиостанции!
Читать дальше