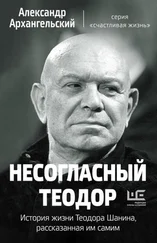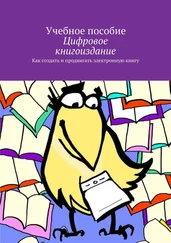В отличие от о. Фотия, о. Феодосия не пришлось долго уговаривать. Во-первых, потому что был он куда добродушнее и мягче, во-вторых, не смел забыть, что «пред лицем Царского Величества… трепещет всякий подвластный ему человек и теряется даже некоторое время во всех своих чувствах» (там же).
Чтобы понять весь ужас происходящего в этой сцене, нужно помнить: в греческом мифе именно Филемон и Бавкида, в награду за то, что — в отличие от односельчан — впустили в свою хижину переодетого Зевса, избегают затопления. Мало того, они достигают счастливого долголетия и вместо смерти превращаются в вечнозеленые деревья…
См. в «Автобиографии» о. Фотия: Русская Старина. 1895. № 2. С. 196.
См. свидетельство Н. И. Греча (Русский Архив. 1868. Стб. 1403–1412); ср. предположение А. Н. Пыпина о том, что выкраден был и один готовый экземпляр книги (Русская Старина. 1868. № 11. С. 266). Никто из участников придворной смуты в позднейших мемуарах не называет имени Аракчеева как тайного организатора, только как александровского «порученца»; но случай с краденой корректурой указывает, из какого укрывища посылались тогда боевые приказы.
Цит. по: Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. С. 75.
Кажется, дело не только в надежде, что сквозь инвективы в адрес цареубийцы Александр расслышит тайную, непроизнесенную, безмолвно звучащую оду Дому Романовых (которых устами своего предка Григория Пушкина поэт аттестует — «Отечества надежда»), сумевшему вывести Россию из ужасов безначалия. И не только в том, что Романовы и Годуновы — это два извечно враждующих и конкурирующих рода, и очернить один — все равно что возвеличить другой; главная причина социальных упований русского поэта была иной; имя ей — Карамзин. Ход пушкинской мысли — если мы верно ее понимаем — был приблизительно таков. Если историограф по-прежнему принят при дворе и даже еще более обласкан после марта 1824-го, когда вышли в свет 10-й и 11-й тома его великого труда, — как раз и повествующие о временах Годунова; больше того, представляющие легенду об участии царя Бориса в убиении царевича Димитрия несомненным фактом, — стало быть, версия эта «официально одобрена». А сверхсовременный подтекст новоизданных томов («В них трепет жизни, как будто это газета, только вчера вышедшая в свет») признан несуществующим, прочтению не подлежащим. Потому-то Пушкин, ясно сознавая «психологический параллелизм» избранного им сюжета, хватался за спасительную соломинку: «пусть трагедия искупит меня» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 149).
У Пушкина Николку мальчишка щелкает по железной шапке и восклицает: «Эк она звонит!» Кажется, великий поэт заблуждался. Железные колпаки юродивых при ударе могли только глухо звучать, поскольку сделаны были отнюдь не из жести; от их непереносимой тяжести подчас лопались глаза; так что носили их не только из презрения к обычаям мира, но и для настоящего физического страдания.
Цит. по: Шильдер. Т. 4. С. 359.
Цит. по: Исповедь Шервуда-Верного [Предисловие Н. К. Шильдера] // Исторический Вестник. 1896. Т. 63. № 1. С. 68.
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 6 т. Т. 5. М.: ГИХЛ, 1947. С. 274.
Корф М. Жизнь графа Сперанского. Т. 1.
Там же. С. 73.
Там же. С. 76.
Пушкин А. С. Медный всадник / Изд. подг. Н. В. Измайлов. Л., 1978. (Серия «Литературные памятники»). С. 22–23.
Булгарин Ф. В. Поездка в Грузино в 1824 году (Из воспоминаний) // Новоселье. Ч. 3. СПб., 1846. С. 205.
Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX в. [Часть] 9 // Русская Старина. 1900. № 9. С. 470.
Шильдер. Т. 1.С. 241.
Там же.
Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра Первого. С. 379.
Шильдер. Т. 4. С. 262.
Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра Первого. С. 126.
Там же. С. 134.
Там же. С. 130.
Там же. С. 215.
Рассказы бывших военных поселян о графе Аракчееве // Русская Старина. 1887. № 8. С. 419.
Там же. С. 420.
Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра Первого. С. 33.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
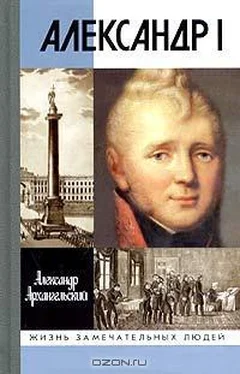
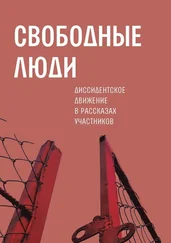
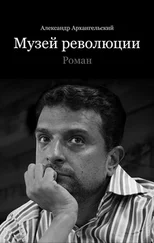


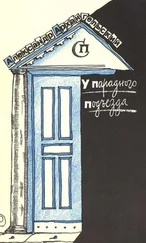
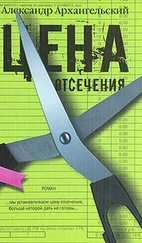
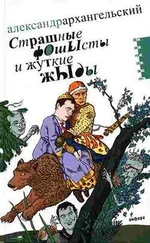
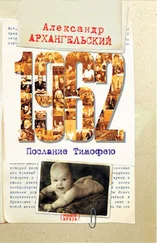
![Александр Архангельский - Русофил [История жизни Жоржа Нива, рассказанная им самим] [litres]](/books/394510/aleksandr-arhangelskij-rusofil-istoriya-zhizni-zhor-thumb.webp)