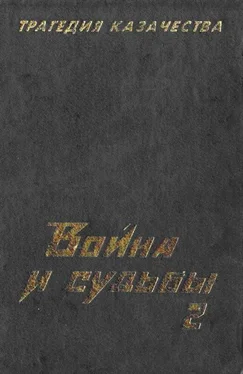Входит чекист.
— Встать! По одному в затылок — становись! Шагом марш!
И проверяет, как мы усвоили инструктаж (руки за спину, смотреть на носки…) Приводит опять в подвал, открывает первую камеру и вызывает меня:
— Заходи!
Я подошел к двери в камеру, а там полумрак. Стою, рассматриваю порожек. Кто-то сзади как двинет меня ногой в спину, и я лечу в камеру, но падаю на чьи-то подставленные руки. Старожилы этой камеры уже знали этот прием и готовы были поймать нового узника. Осмотрелся, поблагодарил товарищей за спасение меня от падения на бетонированный пол. Начались расспросы: откуда, кто такой, где был, за что посажен и т. д. Ввели меня в курс дела. Оказывается, в камере не могут сидеть двое, чьи фамилии начинаются на одну букву. Вызывают на допрос так: открывается дверь, и охранник вполголоса объявляет букву, к примеру, «Т». Тот, чья фамилия на букву «Т», вскакивает и тоже вполголоса произносит фамилию полностью.
— Выходи.
В камере были все военные из разных частей. Старшим по чину был майор по фамилии Зайцев. Рядовых не было.
Меня не вызывали с неделю. И вот, как-то уже близко к отбою, я уже сидя дремал, так как с подъема и до отбоя лежать строго запрещалось, открывается дверь, и тихо говорят:
— «П».
Я вскакиваю, отвечаю.
— Выходи.
* * *
В отличие от Прокопьевска Новосибирск и его Управление контрразведки «Смерш» были, как небо и земля. Если там все было тихо и относительно человечно, то здесь во всем была грубость, матерщина и ненависть. Тут все было устроено для полного подавления личности, для того, чтобы убить в человеке всякую способность к сопротивлению. Конвой, охрана и вся обслуга никогда не смотрели в глаза заключенным. Да и заключенному нельзя было разговаривать с конвоем, спрашивать что-либо, да и вообще задавать вопросы. Днем лежать на койке строго запрещалось. Допросы же проводились в ночное время. Иногда измученный бессонницей человек засыпал, сидя на койке или на стуле. И не дай Бог, надзиратель в смотровое очко заметит дремавшего заключенного. Я сам не видел, но товарищи по камере рассказывали, что был такой карцер, который называли «Гроб». Его дверь закрывалась прямо перед лицом, так что человеку оставалось только стоять навытяжку… Вот в него-то и можно было попасть за нарушение режима дня. Уже в Воркуте мне один сосед по нарам рассказывал, как он был в таком «Гробу», куда сажали без головного убора, и ко всему прочему с потолка капала холодная вода, увернуться от которой ввиду тесноты было невозможно.
* * *
Итак, время было уже к отбою; все ждали счастливой минуты, чтобы можно было лечь и забыться; открывается дверь, и конвоир произносит:
— «П».
Я сперепугу вскакиваю, называю фамилию и слышу:
— Выходи.
Пока он запирал дверь в камеру, я стоял в ярко освещенном коридоре и рассматривал обстановку. Надзиратель с матом схватил меня за шиворот, перевернул лицом к стене и раз пять-шесть стукнул меня лбом об стенку, приговаривая:
— Тебя, гада, учили стоять лицом к стене, руки назад и смотреть на носки обуви!?
Это была моя первая «подготовка» к первому в жизни допросу. В дальнейшем я ни разу не нарушал режим движения на допрос и назад в камеру.
Уже не помню, на какой этаж мы поднялись. Захожу в кабинет следователя: комната маленькая, но с большим окном. На столе разложен ужин следователя: не рассмотрел, что там было. Но по запаху понял — рыбные консервы, и заметил большую бутылку с какой-то жидкостью. Я вспомнил предварительное следствие в Прокопьевске, где следователь меня угощал чаем и галетами. Я стою; стоит и конвой. Из боковой двери выходит молодой человек, я бы сказал, приятной внешности. Отпустив конвоира, он предложил мне сесть. Сам также сел за стол и начал трапезу. Ел медленно, как бы рассматривая меня. И все это при гробовой тишине. По его взгляду я понял — это психологическая обработка меня. Ужин продолжался часа полтора. Я чуть было, задремав, не упал со стула. Окончив ужин, следователь прополоскал рот, отошел к окну и закурил, глядя в окно. Потом он сел на подоконник и стал рассматривать меня таким, что называется, «гадючьим» взглядом. Одна папироса кончилась, он закурил вторую. Я неподвижно сидел на стуле, изредка поглядывая на него. Вторая папироса погасла; он не стал ее зажигать — все рассматривал подследственного. Это продолжалось не меньше часа. Вдруг, спрыгнув с подоконника, он разразился такой тирадой:
— Ну что, фашистская сволочь, сидишь и глаза прячешь!? Что, стыдно смотреть советскому правосудию в глаза!? Подними свою фашистскую рожу и глянь на меня! В мои руки советский народ вложил право карать вот таких гадов со всей строгостью советского закона!
Читать дальше