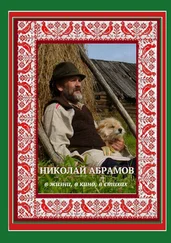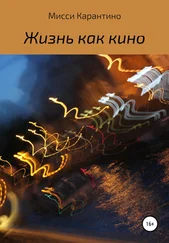Клюев принял отца нарочито холодно. Он не предложил ему сесть и некоторое время тяжелым взглядом из-под припухших век изучал его. «Сейчас я проучу этого самоуверенного, наглого поляка! Он на всю жизнь у меня запомнит, как надо разговаривать с политработниками!»
Генерал не спешил «снимать стружку» с отца. Он держал паузу, как хороший артист.
Отец смотрел на его обвислые щеки, на мешки под глазами, на живот, упирающийся в стол, на пухлые пальцы, танцующие на столе, и думал: «Пожрать ты любишь, генерал. Да и выпить, видно, тоже не дурак! Всю войну в штабе просидел, штаны протирал, пороху не нюхал! И такой-то меня, побывавшего у самого дьявола в пасти, воспитывать будешь? Ну нет, не бывать этому!»
Отец демонстративно посмотрел на часы: «Прошу прощения, генерал. Меня ждут неотложные дела».
— Молчать, Прохницкий! — Клюев с силой обрушил свой мощный кулак на стол. — Молчать!!! — Он еще раз ударил кулаком по столу.
После допросов на Лубянке отец не выносил окрика. Кровь прилила к его голове.
— Не смейте кричать на меня, генерал!
— Что?! — У Клюева задрожала нижняя челюсть. — Ты нагрубил полковнику Кареву, а теперь мне грубишь?!
— И вы, генерал, и ваш Карев — бездельники! Все политработники — бездельники — и, не попросив разрешения, отец резко повернулся и вышел из кабинета.
— Прохницкий, ты за это ответишь! Ты долго будешь меня помнить! — выкрикнул генерал в спину уходящего отца.
«А что он мне может сделать? Я честно воевал, честно работал, не боюсь я их», — подумал тогда отец.
Единственно, о чем отец искренне сожалел, так это о том, что не смог помочь своему фронтовому другу. Подполковник Розенсон получил 10 лет без права переписки, был отправлен в лагеря, где сгинул бесследно. Место его захоронения не было известно ни жене, ни взрослым дочерям.
После инцидента отца с генералом Клюевым прошло всего три дня. Был воскресный день. Мама приготовила любимые папины щавельные щи. Во входную дверь кто-то позвонил.
— Открой, Болеслав! Это к нам кто-то на обед пожаловал, — сказала мама.
В комнату вошли трое в форме НКВД и двое понятых. Предъявили ордер на обыск. Перевернули в комнате все вверх дном. Из шкафа повыкидывали на пол постельное белье, одежду, обувь. Заглядывали под кровать, лазали на антресоли, внимательно обследовали со всех сторон пианино. И вдруг тот, кто предъявил ордер, будто бы невзначай положил руку на шкаф.
— Нашел! Так и есть! Секретный устав тыла войск ПВО! С какой целью, Прохницкий, вы держите дома секретный документ для служебного пользования?!
— Я не знаю, как он здесь оказался. Я никак не мог принести его домой, так как не имел к нему доступа.
— Прохницкий! Это вы будете объяснять не нам! Вы совершили серьезное служебное правонарушение. И отвечать будете по всей строгости закона.
Отца осудили на 5 лет и отправили в лагеря в Карагандинскую область.
Мы с мамой жили очень трудно. За работу в парикмахерской косметичкой она получала копейки, которых не хватало на еду. После работы вечерами мама ходила по квартирам своих клиенток и красила им брови и ресницы урзолом. Домой она приносила мелочь, сложенную в узелок из носового платка. На следующий день на эти заработанные деньги мама покупала в гастрономе пачку пельменей или двести граммов вареной колбасы.
…Отца выпустили по амнистии, после смерти Сталина, да и «секретный» документ был к тому времени «рассекречен».
Отец вернулся совсем другим человеком, от непотребной лагерной пищи болели желудок и печень, от подъема тяжестей болела спина, от сырого холодного карцера, куда его часто бросали за строптивый характер, развился полиартрит, от ударов кастетом по голове на Лубянке — нечеловеческие головные боли. Он потерял сон. Его нервы были расшатаны до предела. От каждого звонка в дверь он вздрагивал и просил маму: «Не открывай! Кто это может быть в это время?!»
Целыми днями он лежал на диване, отвернувшись к стене. Работать он не мог. В свои сорок пять лет он был больным, искалеченным человеком. ОНИ сумели его сломить.
Однажды он сказал: «Мне повезло, что умер этот усатый палач. Я бы сидел до звонка».
С этого дня мы с отцом стали чужими.
Я — дитя своего времени, воспитанная на принципах и устоях «самого могучего и справедливого государства в мире». Я испытала первое сильное потрясение в своей жизни, когда в раннее мартовское утро 1953 года услышала голос Левитана: «Дорогие соотечественники, товарищи, друзья! Наша партия, все человечество понесло тягчайшую, невозвратимую утрату. Окончил свой славный жизненный путь наш учитель и вождь, величайший гений человечества Иосиф Виссарионович Сталин». По дороге в училище я плакала. Плакали люди на улице, в автобусе, в метро.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу