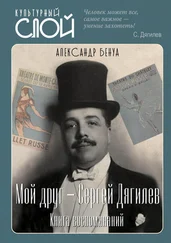Матросы тоже не произвели на меня того впечатления, которое могло бы меня примирить со многим чудовищным, что имеется в текущем моменте, так что я предпочел с возбужденным любопытством наблюдать со стороны. Во-первых, бравых, настоящих матросских лиц в этой компании из 30–40 человек было всего три-четыре. Остальные же в нашем смысле не внушают доверия к тому, что они призваны отныне обновить культуру. Напротив, большинство обладает тупыми и просто зловещими, зверскими лицами. Возможно, что это в значительной степени иллюзия, что и среди этих молчаливых и понурых людей, не успевших оправиться после многолетней каторги (об этом очень громко и убедительно говорил пригрозивший нам оратор, судя по выговору, — эстонец), имеются хорошие, жаждущие, свежие натуры. Но первое впечатление в общей массе — отталкивающее (а ведь я шел подготовленный и скорее с намерением в них признать себе близких по существу) и даже жуткое.
Впрочем, еще другое впечатление произвел на меня «многообещающий паренек», одетый в нематросскую черную куртку и носящий настоящий университетский (!) значок. По типу — это канцелярист-ловелас, но хитрое, острое личико, бегающие глазки, оставшиеся от прежнего режима, заменены известной угодливостью, очень странно сплетающейся с выработанной позой «неукоснительного революционера», и указывают на то, что паренек очень себе на уме и метит высоко. Не он ли внушает Луначарскому про дальнейшее «углубление революции»? Чего же! Должен сказать, что Луначарский с его «елейным откровением» так мне стал не то что противен (он все же шармирует и лукавством, и какой-то сентиментальной благонамеренностью), мучителен, что когда он прибегает к своему излюбленному мотиву о том, что вслед за нами пойдет уже просто пугачевщина, у меня является соблазн: уж лучше это, по крайней мере, в откровенную. И тогда «пареньки» роковым образом подготовят почву для возвращения «естественного порядка». Они же первые в этом порядке найдут себе достойное применение: свернут на ту старую дорогу, по которой шли.
Перед обедом приходил — моя детская пассия — Н.А.Шильдкнехт, присланный Каминькой (их политика — меня компрометировать — продолжается), к которой он пристал со своим проектом увеличить доход и уменьшить расход по театрам. Я ему объяснил, что я здесь ни при чем, но все же пришлось согласиться выслушать его пятиактную пьесу в стихах! И придти посмотреть его кукольный театр. Несомненно, он немного помешанный! О, как вредно встречаться с «Наинами»! О, как много прошло времени с тех пор, что он прославлял Одалисок в составе «турецкого посольства» (это было в самый разгар Турецкой войны), в которой принимала участие вся наша архитектурная молодежь в союзе, если не ошибаюсь, с Ратьковыми!
К чаю был В.Солнцев, принесший провизии. Акица готова предоставить квартиру Кати для Сувчинского — тот все не может решиться, куда деваться. Кажется, он въедет в одну из квартир в доме его матери, которую для него очистят красногвардейцы — тоже удовольствие!
Я читал Стипу [Яремичу] и Эрнсту пассаж дневника про выставку «Мира искусства». Первый совершенно согласен и даже сгущает краски, Боже, какой он был сегодня бещеный, когда Луначарский произносил свою речь (я записал главные пассажи речи в свою книжку). Он даже не мог выдержать, чтобы почти совершенно громко не шепнуть: «Холуй! Вот холуй!» Особенно его раздразнили угрозы матросов. Второй отнесся мягче и «просил снисхождения».
Слушал и Кока. Не знаю только, хорошо ли это? После их раннего (что теперь обыкновенно) ухода я еще написал письмо Шагалу и черновик послал Луначарскому. Читаю «Новь».
Среда, 31 января
Последний день старого стиля. Ну, его мне не жаль.
Мучительное ощущение капкана, или погружения в состояние пессимизма, продолжается, а умственное усиливается. Переписываю и переделываю письмо Луначарскому, но время идет, и я еще не знаю, когда отошлю. Сегодня я не хотел ехать на заседание издательства и просил об этом предупредить зимнедворцовых людей, но рассеянный мальчишка забыл и лишь перед самым заседанием по телефону из Общества поощрения (где мы заседали по делам изданий Общины святой Евгении) попробовал отказаться: Александр Николаевич-де чувствует себя разбитым. На это Лариса сейчас же собралась сделать распоряжение, чтобы мне были высланы лошади, и так как это уже совсем не входило в мою программу, то я предпочел уступить и пошел. Само заседание прошло в тонах скорее приятных. Луначарский развивал мысли, которые вполне соответствуют нашим, и блистал, как бриллиант перед стекольщиком, рядом с заведшим свою волынку товарищем Полянским (все вновь здорово: об экспертизе тарифов, о том, что он должен быть окупаем, об его идеале книги «С севера на юг» Каразина); но все же и здесь безлюдность очевидна. Все это — опять-таки Фата-моргана поставлена в воздухе, самоотдающая словами, и больше ничего.
Читать дальше
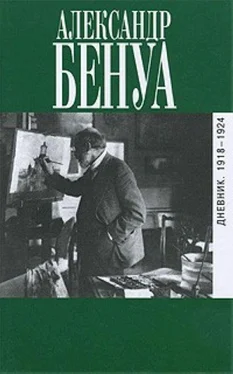




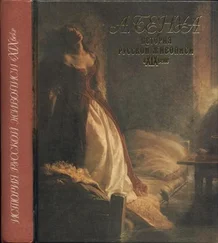

![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/425308/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr-thumb.webp)