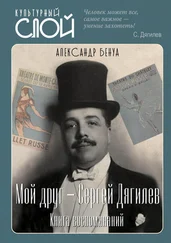Никакого впечатления как будто не производят покамест те бомбы с аэропланов не только на нас (сегодня днем, около четырех, раздались гудки для острастки, но я даже и на небо не взглянул), но и на прислугу, несмотря на то что власти стараются использовать этот козырь для своих интересов. Распространено даже мнение, что бомбы бросали русские специально для того, чтобы поднять народную ярость, а что немец бросал лишь прокламации. Как-то раз Мотя видела на Среднем проспекте низко летевший немецкий аэроплан, сбрасывавший прокламации, в которых говорилось, чтобы жители не опасались, что зла никому не будет сделано, что расправа ожидает только советских заправил и Красную гвардию и что-де ждите нас через десять дней. Красногвардеец опешил, только следил разинув рот за летуном. Близ же стоявший солдат взял у него винтовку и выстрелил, разумеется, зря.
Днем пришел после долгого времени Аргутон — понурый, серый, мрачный. Тоже только и мечтает о приходе немцев. Просидел у нас до обеда часа два, пообедал и еще после обеда сидел часа полтора. Утомил меня безмерно. На сей раз о «шибанерах» не говорил!
Вторник, 5 марта
Все мучаюсь тем, что не могу прервать свое молчание. Вижу и чувствую, что накопляются благодаря этому недоразумения, еще более чувствую долг высказаться. Сейчас нельзя молчать. Но что я скажу и как, этого не знаю, ибо что ни скажу, в наши дни будет понято вкривь, а снабжать каждое слово комментарием я просто не в силах, не в настроении.
Впрочем, основное, пожалуй, препятствие в том, что я сам не понимаю до конца того, чему являюсь свидетелем. Никто на всем свете этого до конца не понимает. «Свыше наших сил». Но сотни очень умных и ученых людей счастливее меня просто потому, что их кругозор, то есть горизонт — ближе, их заботы требуют решений легче. Мне же, по моему кругозору, потребовался бы «гениальный ум», ну, скажем, ум Гёте, а это мне и не дано Богом. Я ведь весь такой с очень большими возможностями и с очень большими проблемами и как «знаток» музыки, и «специалист» по истории искусства, и как творец-художник. Во всем у меня проявляется совершенно исключительное (признаю это без ложной скромности) наитие и угадывание. И при этом совершенно непозволительные проблемы в смысле «научной дисциплины». В былое время я был очень горд своим талантом, позже я очень скорбел над своими недостатками, но я к талантам получил совершенно объективное отношение, дальнейшее исправление недостатков поручаю влиянию времени, мое состояние вместе взятое при нынешних чрезвычайных обстоятельствах лишает меня нужной уверенности, смущает, удерживает от выступлений. Люди даже когда-то близкие, более или менее знающие меня, воображают, что я чего-то испугался, что я «не так, как следует, повел свою физическую тактику», что, словом, я сел между двух стульев. На самом же деле я и раньше ни на один из сотен меня соблазнявших и манивших стульев не усаживался, да и теперь все только поглядываю на этот огромный «зал заседаний», не имея права сделать выбор. А не чувствую я этого права в деятельности оттого, что до конца не понимаю , для чего эти стулья. Каждый из них и все вместе — какого рода спектакль перед ними разворачивается? Разумеется, злорадствующие люди, великолепно возненавидевшие меня, мое молчание, подхватят и это мое признание. Но я ведь сознаюсь в том только, что есть грех всего нашего времени, и грех в высшей степени раздут и моими обличителями, и недоумевающими!
Ох, как трудно говорить правду. И оттого более отрадно ее говорить, что почти никогда не удается распознать до конца. Легкость тех, кто весело мнит, что им принадлежит право даже распознавать правду во всем, действует на меня устрашающе. Шарлатанизм и риторика мне отвратительны. Заблуждение и противоречие третьих — слишком очевидны. Но вот я это все отвергаю, а то я хочу, что я знаю, что истинно нужно, что доподлинно — вот это ускользает из-под формулировки. Не удается никак продумать свою мысль до конца и так, чтобы она оставалась до конца моей , без примеси чужого, иначе говоря, без лжи. Это чужое, несмотря на все предосторожности, где-то коварно начинает просачиваться, оно является среди зреющего и слагающего как уже чувство готовое , сложенное, замкнутое и, являясь, втираясь в мое, оно искажает его, сообщает моим мыслям то относительное фразерство, то качество избитого трупа.
Тут еще и незнание. Ведь для того чтобы говорить о том, что мучает мысль, чтобы перекинуть мост от своей мысли к общественной (иначе для чего говорить!), следовало бы, по крайней мере, в совершенстве знать азбуку, нотную систему, совершенное знание и сознание.
Читать дальше
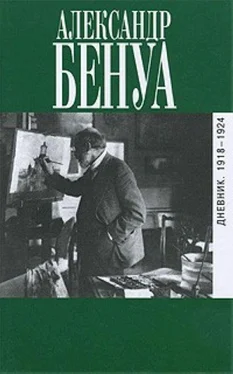




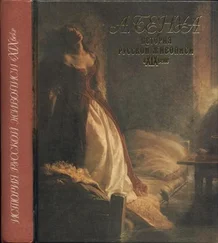

![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/425308/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr-thumb.webp)