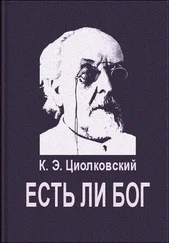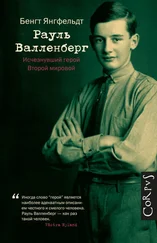За 4 недели нашего общения он ни разу не изменил заведенному порядку; даже в самолете из Вены в Лондон, где в течение полутора часов засасывал водку с тоником, решая немецкий кроссворд в австрийской Die Presse, украшенной моей Jewish mug [жидовской мордой].

[Фото 14. Уистан Оден в те дни, когда он познакомился с Бродским. Снимок сделан во время Международного фестиваля поэзии в Лондоне в июне 1972 г .]
В Лондон они летели, потому что Оден организовал Бродскому приглашение на Международный фестиваль поэзии (Poetry International), где собрались многие из лучших поэтов современности: Тед Хьюз, Янош Пилинский, Стивен Спендер, Шеймас Хини, Джон Эшбери, Роберт Лоуэлл. Последний читал стихи Бродского в английском переводе. Сам Бродский читал по-русски и по памяти, как вспоминает один из присутствующих, поэт и переводчик Дэниэл Вайсборт, «но иногда он сбивался и тогда бил себя отчаянно по лбу. Похоже, он был очень напряжен, что не странно, учитывая обстоятельства… Было нечто трагическое в нем: молодой поэт, почти один на сцене… один во всем мире, у него ничего нет, кроме собственных стихов, кроме русского языка…».
19.
Девятого июля 1972 года Бродский приземлился в Детройте. Через несколько дней он получил письмо от польского поэта Чеслава Милоша. Письмо было написано по-русски. Милош прожил вне Польши двадцать лет, и на тот момент преподавал в университете в Беркли. В интервью 1987 года Бродский пересказывал мне это письмо так:
Я понимаю, Бродский, что Вы в настоящий момент испытываете некоторый страх по поводу того, что не сможете продолжать заниматься стихосложением, оказавшись вне отечества. Если это произойдет, в этом ничего страшного на самом деле нет. Я сталкивался с такими случаями, когда человек оказывается не в состоянии продолжать работать, оказавшись вне родины. Но если это произойдет, это просто свидетельство того, чего Вы стоите. Это будет признак того, что Вы можете работать только в четырех стенах, то есть в естественной для вас обстановке. Таким образом, вы выясните свою собственную ценность. Смысл именно в этом заключался: ну что ж, вполне может быть, в крайнем случае, это будет… какова ваша цена, чего вы стоите [3] Тогда, в 1987 году, Бродский думал, что письмо потерялось, но оно нашлось среди его бумаг после его смерти. «Наверно, Вы сейчас не в состоянии начинать какую-нибудь работу, потому что Вы теперь должны освоить слишком много новых впечатлений. Это вещь внутреннего ритма и его столкновений с ритмом окружающей Вас жизни. Но, раз случилось то, что случилось, гораздо лучше, что Вы приехали в Америку, а не остались в Западной Европе — и это не только с практической точки зрения. Я думаю, что Вы очень обеспокоены, так как все мы из нашей части Европы воспитаны на мифах, что жизнь писателя кончена, если он покинет родную страну. Но — это миф — понятный в странах, в которых цивилизация оставалась долго сельской цивилизацией — в которой „почва“ играла большую роль. Это все зависит от человека и от его внутреннего здоровья». Как видим, суть письма несколько иная, чем помнилось Бродскому, но для нас важно как раз то, каким оно запало в его память.
.
Письмо Милоша имело большое значение для Бродского, который и вправду испытывал тревогу: сможет ли он писать стихи вне своей языковой среды. Беспокойство это отразилось в его первых письмах на родину. «Пытаюсь сочинять, — писал он Якову Гордину 15 сентября. — Иногда — выходит, чаще — нет. Не могу понять часто: есть связь между этой и той строфой или это мне кажется, что есть. И здесь — никто не помощник. Можешь поверить, мне есть от чего нервничать». Чувство тревоги пронизывает и эссе «Писатель — одинокий путешественник», опубликованное в «The New York Times» 1 октября 1972 года, где о роли писателя говорится отчасти теми же словами, что и в письме Брежневу. Текст этот — смелый. Бродский открыто бросает вызов тем кругам русских эмигрантов и западных антикоммунистов, которые ожидают от него резких политических жестов. «Я не позволял себе в России и тем более не позволю себе здесь использовать меня в той или иной политической игре». Твой дом остается родным, «независимо от того, каким образом ты его покидаешь… Как бы ты в нем — хорошо или плохо — ни жил. И я совершенно не понимаю, почему от меня ждут, а иные даже требуют, чтобы я мазал его ворота дегтем. Россия — это мой дом, я прожил в нем всю свою жизнь, и всем, что имею за душой, я обязан ей и ее народу. И — главное — ее языку». Для писателя, утверждает Бродский, есть «только один вид патриотизма: по отношению к языку».
Читать дальше
![Бенгт Янгфельдт Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями] обложка книги](/books/225431/bengt-yangfeldt-yazyk-est-bog-zametki-ob-iosife-b-cover.webp)