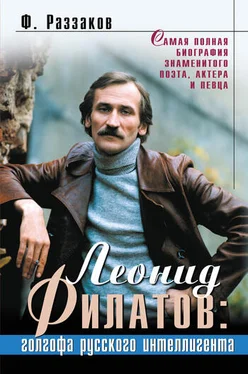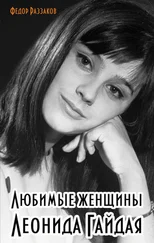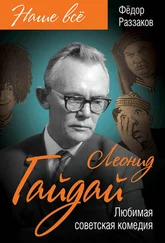В конце концов нам вручили главный приз – «Серебряный колос». А тут мы узнаем, что нашей картине еще и в Чикаго дали первую премию – «Золотого Хьюго». На радостях решили это дело отметить. Зашли в ресторанчик, посидели. А когда вышли, я обратил внимание, что на противоположной стороне красуется вывеска: «Секс-шоп». Спрашиваю у Лени: «Ты был когда-нибудь в секс-шопе?» – «Нет». – «Вот и я ни разу. Давай зайдем». Филатов долго мялся, даже сказал что-то вроде: «Нет уж. Ты мне не дал ни одного фильма посмотреть. Но теперь не уговоришь». Но я его уговорил. Нам объяснили: чтобы посмотреть двухминутный ролик, нужно опустить в автомат одну песету. Леня, как только увидел этот ролик, чуть не выбежал из секс-шопа. «Нет, – закричал, – я не могу это смотреть». А когда его две минуты истекли, он с виноватым видом подошел ко мне и чуть слышно пробурчал: «Слушай, Карен, дай мне еще одну песету»…»
В сентябрьском номере журнала «Искусство кино» была помещена рецензия на «Город Зеро» критика З. Абдуллаевой, в которой суть фильма обнажается со всей своей очевидностью. Приведу из нее несколько отрывков:
«Обыкновенный инженер, прилежный семьянин Варакин Алексей Михайлович отправляется в командировку в город с таинственным названием Зеро. Нуль, по-нашему, или, быть может, фантом. Но именно этот загадочный – реальнейший из реальных – город со своими простодушными, дикими и обольстительными обитателями затягивает нашего героя в опасную игру. В другую – странную – жизнь, грозящую превратить его в картонную фигуру.
Удивляться здесь есть чему. И герою, как Алисе в Зазеркалье, приходится быстро ориентироваться, чтобы не попасть впросак, не обмишуриться. Не заблудиться в каскаде аттракционов, в безумных, но одновременно сотканных из воздуха нашей родимой действительности ситуациях.
Потенция жанра – тематической и образной структуры фильма (то ли пародии на магический театр Германа Гессе, то ли заимствования экспозиционных идей музея восковых фигур мадам Тюссо) – обращена к нашим национально-культурным и социальным мифологемам, разыгранным по законам абсурдистской драмы.
Казалось бы, невозможно представить невероятные картины советской реальности еще более невероятными – так, что даже сама способность логически воспринимать их была бы окончательно утеряна. Конечно, наше вполне реалистическое (хотя и «замифилогизированное») время не объяснить позитивистски. Факты – фактами… Но осознать, что все, что было (и есть) – было (и есть) на самом деле – почти невозможно. Мистика какая-то. Кто спорит – советская жизнь фантасмагорична донельзя. А уж загадочна не менее, чем «славянская душа».
Но мы свыклись с абсурдностью повседневного существования настолько, что с трудом отличаем норму от аномалии. У нас ведь своя особенная норма (не только гордость), то бишь собственная уникальность, повсеместно ускоренная аномалия. Скажем, объявлять здоровых сумасшедшими – давняя, восходящая аж к Чаадаеву, а отнюдь не только социалистическая традиция.
Когда здравый смысл кажется (не кажется, а является) сюрреалистским бредом, – все возможно. Как в сказке. Или – как в нашем отечестве. Короче: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» – построить к 80-му году коммунизм, например, или прорыть туннель от Лондона до Бомбея. Нашему человеку по плечу быть одновременно и членом Политбюро, и японским шпионом. Поверить в это нельзя. Но если очень надо – можно. Опыта нам не занимать.
Франц Кафка должен быть объявлен классиком социалистического реализма, представившим феноменологию нашей типичной жизни в типичных же обстоятельствах.
Надо сказать, что правдоподобие вообще зачастую путает у нас карты. Ведь когда вымысел обретает качество реальности, норма становится абсурдом. «Умом Россию не понять» – не только нещадно растиражированная поэтическая сентенция, но и бессмертная формула национального иррационализма.
Начало «Города Зеро» могло бы стать завязкой к любому прежнему фильму К. Шахназарова, а также вполне сгодилось бы для застойно-производственной картины, не выходящей за рамки привычного абсурда. Однако простенькая история (командировка в глубинку для выяснения отношений с заводом-поставщиком кондиционеров в связи с переходом на хозрасчет) изживается авторами в самом зародыше, перевоплощается в нечто непостижимое и постепенно мистифицирует героя, а заодно и нас, зрителей.
Фактура, натура, персонажи, детали легко узнаваемы и смещены, как если бы пришлось запечатлеть зыбкую грань между кошмарным сном и явью, поведать о бредовом состоянии людей здоровых (не уличишь) или же – о неявных отклонениях людей, давно сдвинутых по фазе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу