— Нет, ты не городская…
— Почему же я не городская? — отвечала жена. — В Москве жила.
— Москвичом любой может стать, пускай попробует стать колхозником.
— Я и есть колхозница. Моя молодость прошла в колхозе…
Промелькнули дни отпуска, пришла пора расставаться, а мы, кажется, только вчера встретились и еще не переговорили обо всём, что волновало нас обоих в томительные дни разлуки. Время, время… Как медленно оно тянется, когда сидишь на вокзале в ожидании поезда, и как оно почти совсем останавливается, когда находишься над целью, особенно когда тебя поймают скрещенные лучи прожекторов и прекратится зенитный огонь. Ослепленный, висишь, как на привязи, и ждешь, что вот-вот тебя атакует истребитель. Штурман всё колдует у прицела, а щелчков бомбосбрасывателей почему-то не слышно. Потом начнешь считать эти щелчки, держа строго заданный курс, и краткие мгновенья между щелчками кажутся часами…
В день моего отъезда председатель сельсовета снарядил подводу в Долматово. В ожидании её мы с женой и дочерью сидели на бревнах около сельсовета. Делали вид, что нам весело, говорили о всяких пустяках, лишь бы не молчать.
На душе, как говорят, кошки скребут, а мы стараемся быть веселыми. После моего рассказа жене, какой она засела мне в памяти, — плачущей, она решила не выдавать своего внутреннего состояния. Шутила, улыбалась.
Подъехала подвода. Мы обнялись, распрощались.
— Пиши, а лучше — телеграфируй, что жив…
Лошадь тронулась. Расстояние, разделявшее нас, всё увеличивалось. Мы продолжали махать друг другу руками. Жена крепилась. Но едва подвода успела скрыться за угол, как она разрыдалась. Больше сдерживаться — сил не хватило. Да и я тоже (что греха таить?) только они скрылись — не удержался. Заплакал беззвучно, как умеют плакать мужчины…
До Свердловска я добрался поездом, а там друзья устроили меня на самолет — и вот я уже в своей части. Поездка в Тамакул, десятидневный отпуск — всё это отошло, как целительный сон. Я испытал свежий прилив бодрости. Я снова встал в строй.

Едва мы с Рогозиным прибыли в часть, на нас обрушилось горестное известие: в наше отсутствие несколько экипажей не вернулись с боевого задания.
Случилось это в конце мая. На пути к цели, которая находилась в глубоком тылу гитлеровцев, предстояло преодолеть мощный циклон. Учитывая трудности полета, командование выпустило на задание более опытные экипажи и предупредило их: в случае невозможности пробиться сквозь облака — возвращаться на свой аэродром.
Такое условие командование ставило всегда, когда была плохая погода. Но получалось так, что те, кто возвращался из-за плохих метеорологических условий, оказывались в меньшинстве; иногда это был один-единственный экипаж.
Бывало и так, что большинство экипажей прекратили выполнение задания, а ты один пробиваешься к цели, запорешься, и потом генерал Новодранов отругает:
— Какого черта на рожон прешь? Видишь, что плохо, — возвращайся. Мне такое геройство ни к чему. Мне люди дороже.
Самоубийц среди нас не было, но тем не менее боязнь прослыть робким заставляла людей порой безрассудно рисковать.
В полете, о котором идет речь, перед экипажами встал вопрос: продолжать полет или возвращаться? Как правило, наиболее опытные всегда продолжают полет, менее опытные — возвращаются. Каждому, кто имел десяток-другой полетов, хотелось оказаться в числе «наиболее опытных». Но в данном случае получилось наоборот: самые опытные, видя невозможность пробиться, возвратились, остальные продолжали полет, и никто из них на базу не вернулся.
Спустя почти месяц в часть вернулся капитан Кулешов — штурман одного из экипажей, не вернувшихся в ту злополучную ночь с боевого задания.
Сидим мы однажды в столовой в ожидании обеда и вдруг видим — заходит Кулешов. Мы уже знали, что он вернулся, но больше нам ничего не было известно. Пригласили его за свой стол и попросили рассказать, что с ними случилось.
Плотный, среднего роста, спокойный, уравновешенный офицер с приятным добродушным лицом, он всегда выглядел так, будто собирается на боевое задание условно. Задание готовил легко, с прибаутками и всегда загадочно улыбался. С ним всегда было приятно быть вместе. Глубокое нервное потрясение в корне изменило и его облик, и душевное состояние, и поведение. Он стал неузнаваем. Вместо былого добродушия лицо его выражало не то удивление, не то испуг. Он был непривычно возбужден, ему нелегко было рассказать о случившемся.
Читать дальше


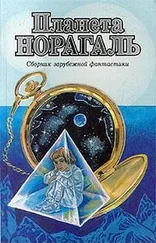








![Степан Швец - Рядовой авиации [Документальная повесть]](/books/419151/stepan-shvec-ryadovoj-aviacii-dokumentalnaya-povest-thumb.webp)
