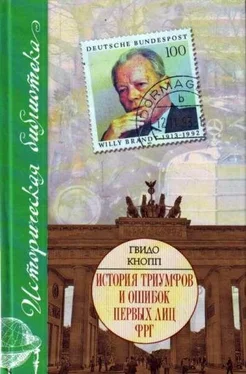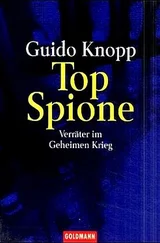Находчивость и меткий юмор до самого конца оставались козырями, с помощью которых канцлер мог внезапно изменить ход затянувшейся дискуссии и разрядить атмосферу. Он обладал помимо этого еще одним свойством, без которого вовсе невозможно понять феномен Аденауэра. Он был стар. Канцлер был старше любого другого политика Федеративной республики, а также старше всех собеседников, которых он встречал на международном уровне. Когда Бисмарка провожали в последний путь, Аденауэр был референдарием. Он стал канцлером в 73 года, в возрасте, когда другие уже выбирают себе место на кладбище. «Настоящий кремень, родом из давно минувших времен», — так охарактеризовал его один из наблюдателей в первые годы боннской республики. Его возраст не только обеспечивал ему вес и уважение в обществе, но и способствовал тому, что окружение Аденауэра явно недооценивало его. Замечание, высказанное Аденауэру его врачом еще перед тем, как он стал кандидатом на пост федерального канцлера от ХДС, гласившее, что ему «вряд ли удастся пробыть в этой должности более двух лет», привело к тому, что более молодые конкуренты отнеслись к нему мягче. Тем, кто направил бы молодую Федеративную республику на верный путь, собирался стать человек, который по причине плохого здоровья был освобожден от военной службы и с которым в 28 лет не пожелали заключить договор о страховании жизни, сославшись на его «слабые легкие». Но он правил дольше, чем 21 кабинет министров Веймарской республики и дольше, чем существовала «тысячелетняя империя».
При этом карьеру Аденауэра после 1945 года можно было назвать как угодно, но только не делом предопределенным или хотя бы предсказуемым. По окончании войны Аденауэр был совершенно неизвестен в Германии. Его имя было известно лишь в Кёльне и его окрестностях и было не на самом хорошем счету, поскольку было связано с предположениями о злоупотреблениях в довоенное время, когда он был в должности обербургомистра Кёльна. В следующие четыре года два человека, сами того не желая, обеспечили ему популярность: Курт Шумахер, освобожденный из концентрационного лагеря мученик немецкой социал-демократии, вскоре ставший ее бесспорным лидером, и Джон Барраклоу, бригадный генерал британских оккупационных войск.
Аденауэр после ухода американцев из Рейнланда снова был назначен на пост обербургомистра Кёльна. Его первая поездка по городу, на территорию которого он не имел права ступить во времена национал-социализма, произвела на него глубокое впечатление: «Все пусто, безлюдно, разрушено». Понадобится много времени, прежде чем Кёльн вновь обретет свое прежнее величие. Многократно подвергавшийся краткосрочным арестам гестапо 69-летний Аденауэр попросил подвезти его на джипе США к бывшему центральному пункту кёльнского гестапо. «Я хотел еще раз взглянуть на притон разбойников», — писал он впоследствии. В разгромленном здании он увидел лампу из бронзы и взял ее с собой в качестве сувенира. Он поставил ее в своем доме в Рёндорфе «как предостережение». Этот поступок очень характерен для него. Даже в моменты сильного эмоционального напряжения он не лишался прагматичной жилки, свойственной его землякам. Сам Аденауэр так прокомментировал историю с лампой: «Человек — странное существо».
Первые недели на посту обербургомистра были движением на ощупь. Канцлер легко находил общий язык с американскими офицерами. Он ценил в них хватку и открытость. Когда он начал критиковать бесчеловечные условия в «рейнских полевых лагерях» — огромных лагерях для военнопленных, расположенных в открытом поле — его собеседники не стали читать ему проповеди, а просто обещали улучшить условия содержания пленных. Хороший опыт отношений с американцами оказался основополагающим. Вскоре Аденауэр начал налаживать политические контакты на более высоком уровне. При этом его первые подобные диалоги еще отражали недостаточную определенность. 5 мая, за три дня до капитуляции, он поделился с одним из своих друзей, что Сталин будто бы является «другом немцев», а Черчилль, напротив — «германоненавистником». Но когда уже довольно скоро выяснилось, что дружба Кремля с немцами имеет свои четкие границы, Аденауэр в числе первых признал, что оккупированная СССР часть Германии не будет «на определенное время учитываться в политических вопросах», так он выразился в сентябре 1945 года. Это чувство реальности в условиях мировой политики оказалось впоследствии трудно переоценить.
Читать дальше