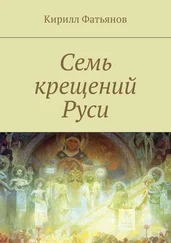Поздно вечером, приходя из театра, молодой актер присаживался к письменному столу. Если не читал и не работал, то весь принадлежал домашним. Любил поспорить, особенно на театральные темы. И всегда оказывался прав, он просто не мог не победить в споре. Ия и Наталия Ивановна иногда вызывали его на турнир: они играли в слова. Алеша вступал в соревнование увлеченно, как будто доказывал, кто знает больше всех: «Ну, что я вам говорил?». Конечно, он всегда выигрывал.
Он по-прежнему ходил на концерты Доливо-Соботницкого со старыми друзьями. В компании появлялись девушки. Знакомые по театральному классу еще с Лосинки актрисы Ирина Сафонова и Галина Степанова теперь были однокурсницами Алеши. Часто они бывали на концертах вместе, и нам сегодня можно лишь предполагать: могло ли горячее сердце поэта оставаться равнодушным к девушке, сидящей в соседнем кресле партера. Да и какой юноша исподтишка не любовался золотистым профилем юной театралки, не восхищался хрупкостью ее запястий и глубиной взора? Кто не открывал себе женской красоты впервые, будто проснувшись, вглядевшись в черты знакомого лица, показавшегося вдруг божественно прекрасным?
Однажды он взял с собой племянницу Ию на спектакль «Глубокая провинция» по пьесе Михаила Светлова, а в антракте познакомил ее с автором. Девочка запомнила ощущение общения со знаменитостью на всю жизнь. Алексей пришел по личному приглашению поэта, чем гордился. Он любил стихи Светлова, восторгался его личными качествами.
— Это — личность! — взволнованно говорил он, и рысьи глаза его вспыхивали и зелено мерцали, когда он читал: — «…Отряд не заметил потери бойца и «Яблочко» песню допел до конца…»!
В тридцатые годы Алексею Ивановичу особенно близка была поэзия Михаила Исаковского. Это время вознесения Уткина, Безыменского, Жарова, Багрицкого, время обэриутов и прочих конструкторов-дизайнеров, перманентных революционеров. А у него, у бурного юноши, свой царь — Исаковский! Он был покорен простотой ясных и певучих стихов. Ощущение, что они были всегда, просто росли где-то в лугах и садах, словно были плодами самой природы, а не ума человеческого, не давало покоя Фатьянову. Он хвастался ими, как своими, читал знакомым и радовался. Это были настоящие русские стихи, идущие от традиций Пушкина и Некрасова, гениальные в своей простоте. Пожалуй, еще тоньше Исаковского сумел Фатьянов выразить движения вечно тоскующей по утраченному дому русской души — спокойной соловьиной души замиренного ненадолго военного времени. Жаль только, что Исаковский не разглядел в Фатьянове этих достоинств. На одном из послевоенных семинаров Литературного института стихи песни «Соловьи» он назвал «мурой», за исключением двух строчек. Порадоваться удаче собрата — это, видимо, тоже особый дар…
Алексей успевал везде. И сегодня нам можно лишь восхищаться тем, что всюду, даже у себя дома, он был всегда подтянут и опрятен. Никто не должен был знать, как трудно ему это давалось. И только маленькая Ия видела это и молча страдала вместе с ним и за него. Она была влюблена в своего дядю, как в лирический образ, и по-женски детским своим сердцем чувствовала его. Уже постаревшая эта девочка рассказывала мне о юношеских днях Алексея, и в словах ее и интонациях сквозили любовь и сожаление:
— Бедный гардероб, скудная еда повергали его в уныние, уязвляли бывшую в его характере барственность. Ему хотелось делать красивые жесты, бросать цветы к ногам театральных знаменитостей и хотя бы изредка угощать красивых женщин чашечкой кофе, а близким — дарить все, чего их душа возжелает. Но его представления о жизни никак не вязалось с внешними обстоятельства. Он был широким человеком… Пытался подрабатывать, но «массовочные» копейки не могли спасти положения. Он страдал…
Я сам починял ботинки
И ставил на брюки заплаты
И, чтоб не заплакать от горя,
Читал юмористов на сон… —
пишет юный Алексей в стихотворной повести «Этапы», конечно, про себя. Светло-серый костюм, единственный в его распоряжении, носил на себе те щемящие знаки бедности, которые так мешают вести себя в обществе свободно, каким бы ты ни был выдающимся поэтом, артистом или философом. Единственные парусиновые туфли столь же красноречиво рассказывали о материальном положении их обладателя. Иногда Алеше приходилось сидеть дома оттого, что он выстирывал костюм и ждал, пока ткань высохнет. Глотнув унизительной нищеты в молодости, после он никогда не копил денег и не откладывал «про черный день». После войны его можно было назвать и щедрым, и расточительным. Бедность его угнетала. Казалось, всю свою недолгую жизнь он воевал за деньги, но против них…
Читать дальше
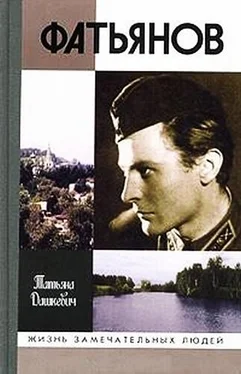
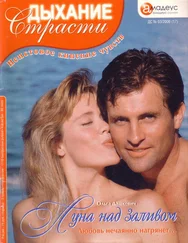



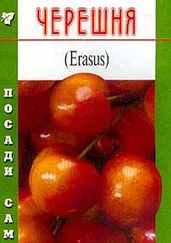
![Ольга Дашкевич - Шаман [трилогия - СИ]](/books/399480/olga-dashkevich-shaman-trilogiya-si-thumb.webp)