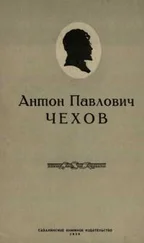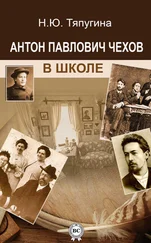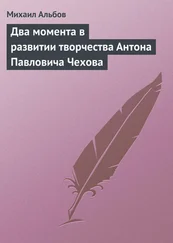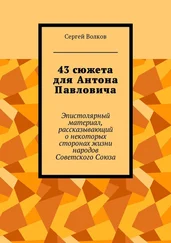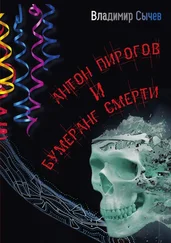Придут люди, которые будут достойны всей красоты родной земли. Они очистят, искупят все ее прошлое и превратят всю родину в волшебный, цветущий сад. Мы чувствуем, что Аня будет вместе с этими людьми.
Таково поэтическое содержание мудрого и самого светлого, оптимистического произведения Чехова.
Чехов хотел, чтобы спектакль Художественного театра прозвучал в том оптимистическом тоне, в каком он написал пьесу. Он хотел, чтобы в зале стоял неудержимый смех над ничтожным, «призрачным» миром Гаевых и Раневских, он требовал, чтобы Раневскую обязательно играла «комическая старуха», ему хотелось, чтобы зритель ясно чувствовал водевильность всех страданий слезоточивых героев, всех слез, проливаемых ими. Когда В. И. Немирович-Данченко написал ему, что в пьесе «много плачущих», то Антон Павлович был искренне удивлен этим впечатлением. «Почему, — спрашивает он В. И. Немировича-Данченко, — ты в телеграмме говоришь о том, что в пьесе много плачущих? Где они? Только одна Варя, но это потому, что Варя плакса по натуре, и слезы ее не должны возбуждать в зрителе унылого чувства. Часто у меня встречается «сквозь слезы», но это показывает только настроение лиц, а не слезы».
И в самом деле, разве может зритель сочувствовать пустым, ничтожным страданиям пустых, ничтожных, хотя и очень добродушных, по-своему милых людей, какими являются Раневская и Гаев? Все в них смешно и нелепо, — даже то, что муж Раневской «умер от шампанского». Тут и самая смерть становится водевильной, шутовской, — смерть человека, который, как говорит о своем покойном муже Раневская, в своей жизни «делал» только одно — долги.
Очень интересен способ, с помощью которого Чехов подчеркивает шутовскую «призрачность», несерьезность всего мира Гаевых-Раневских. — окружает этих центральных героев своей комедии боковыми персонажами, уже откровенно фарсовыми, вполне гротесковыми, отражающими комическую никчемность главных фигур.
Еще в своей юношеской пьесе «Безотцовщина» Чехов нащупал этот художественный прием отражения. Лакейская внутренняя сущность «господ» подчеркивалась их сходством со своими лакеями: господа отражались в слугах, по пословице: «каков барин, таков и слуга», или: «каков поп, таков и приход». Один из героев «Безотцовщины» изумляется тем, как похожи лакеи на господ. «Они во фраках! Ах, чёрт возьми! Ужасно вы на господ похожи!» — повторяет он.
В «Вишневом саде» этот мотив отражения развивается во множестве вариаций, начиная от простых и кончая сложными, зашифрованными.
Горничная Дуняша говорит своему возлюбленному, лакею Яше: «Я стала тревожная, все беспокоюсь. Меня еще девочкой взяли к господам, я теперь отвыкла от простой жизни, и вот руки белые-белые, как у барышни. Нежная стала, такая деликатная, благородная, всего боюсь. Страшно так. И если вы, Яша, обманете меня, то я не знаю, что будет с моими нервами».
Дуняша — пародия на «белые фигуры с тонкими талиями» и «тонкими», «благородными», хрупкими нервами, — фигуры, которые давно отжили свое время. Она бредит тем же самым, чем бредили когда-то они, — свиданиями при луне, нежными романами.
Такое же пародийно-отражающее значение имеют в пьесе фигуры фокусницы-эксцентрика Шарлотты, конторщика Епиходова, лакея Яши. Именно в этих образах — карикатурах на «господ» — с совершенною ясностью отражается полная призрачность, шутовская несерьезность всей жизни Гаевых и Раневских.
В одинокой, нелепой, ненужной судьбе приживалки Шарлотты Ивановны есть сходство с нелепой, ненужной судьбой Раневской. Обе они относятся сами к себе, как к чему-то непонятно-ненужному, странному, и той и другой жизнь представляется туманной, неясной, какой-то «призрачной». Вот как говорит Шарлотта о себе:
«Шарлотта (в раздумьи). У меня нет настоящего паспорта, я не знаю., сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала salto-mortale и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла. Потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я — не знаю. Кто мои родители, может, они не венчались… не знаю. (Достает из кармана огурец и ест.) Ничего не знаю. (Пауза.) Так хочется говорить, а не с кем… Никого у меня нет… и кто я, зачем я, неизвестно…»
Это — невеселые высказывания, но ошиблась бы исполнительница этой роли, если бы она окрасила весь образ Шарлотты Ивановны грустью. Главное в ней — это то, что она до самозабвения увлекается фокусами, эксцентрикой. От «призрачной» жизни, в которой все непонятно, в которой «только кажется, что мы существуем», Шарлотта уходит в еще более призрачный, издевающийся над логикой мир эксцентрики. В этом уходе от реальности и ее утешение и вся ее жизнь.
Читать дальше
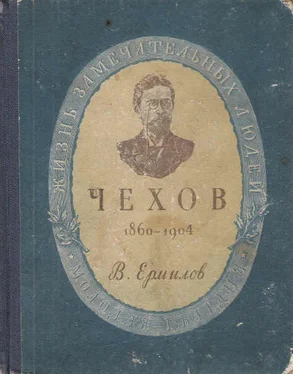
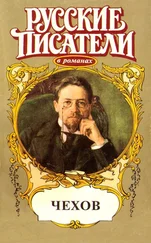



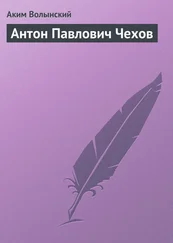
![Станислав Антонов - Красный чех [Ярослав Гашек в России]](/books/405510/stanislav-antonov-krasnyj-cheh-yaroslav-gashek-v-ros-thumb.webp)