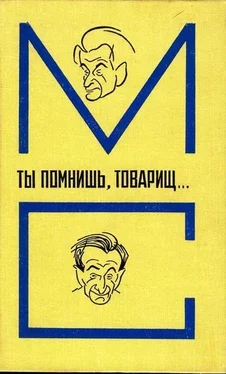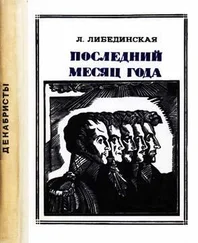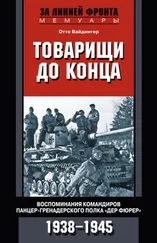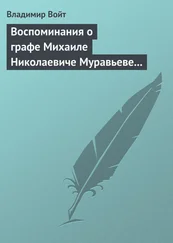Мог в этом коридоре появиться и небрежно одетый, но весьма осанистый старик с дремучей бородой- патриарх киевских газетчиков Всеволод Чаговец, репортер, фельетонист, рассказчик с необозримым дореволюционным стажем. Ему ничего не стоило в разговоре запросто упомянуть Власа Дорошевича, а то и самого Александра Ивановича Куприна – они были когда-то его друзьями.
Из-за редакционных дверей доносились голоса, будоражившие нас. То повелительный: «Тебе оставлено сто строк в номере. Действуй!» А то и волшебный: «Коля, на подверстку требуются стихи!»
Мы были безмерно благодарны Лемару и Коробкову- полубогам, чьи подписи то и дело мелькали на страницах «Киевского пролетария». С этими именами связывалась для нас счастливая возможность проникнуть в таинственный мир, где рождается Печатное Слово.
И вот два полубога послали нас к двум богам, прибывшим из Москвы в Киев, о чем оповещали афиши. Послали пригласить Светлова и Голодного на ближайшее наше занятие.
С этим важным поручением несколько парламентеров и переступили впервые в жизни порог знаменитой киевской гостиницы.
Когда мы очутились в торжественном вестибюле «Континенталя», самый старший из нас, дядя Федя, рослый судоремонтник, писавший заметки и стихи о своем днепровском затоне, носивший, как и положено речнику, под синей курткой броскую тельняшку, многозначительно хмыкнул. Он поглядел на люстры, на зеркала и настроился скептически:
– Ничего, хлопцы, не получится. Охота им, известным поэтам, шляться по литкружкам!
Я с запалом самого младшего – мне стукнуло шестнадцать – возразил:
– Все получится! Во-первых, они комсомольские поэты. Во-вторых, Коробков велел сослаться на него. Коробкову не откажут. Не зря же ему стихи посвящены.
– Побачимо…- сказал дядя Федя.
Киев, хоть и не был еще в ту пору столицей Украины, отнюдь не слыл литературной провинцией. Его считали культурным центром республики, называли украинским Ленинградом.
Правда, большинство писателей обитало в Харькове. Но и в нашем городе работали выдающиеся мастера. На вечерах поэзии можно было услышать Максима Рыльского, Миколу Бажана, Николая Ушакова. Навещали нас харьковчане. Приезжали москвичи.
Прошли считанные месяцы со дня смерти Маяковского.
Владимир Владимирович ежегодно бывал в Киеве. Его бас гремел в Доме коммунистического просвещения, в зале университета, под сводами цирка, в цехах «Ленинской кузницы» и «Большевика». Но этих вечеров я уже не застал. А слышать мне его довелось лишь однажды- в Москве, на стадионе «Динамо». Маяковский выступал на закрытии Всесоюзного пионерского слета, делегатом которого я был.
Я еще только входил в современный мир стихов, для меня все было ново. Жадно читая и перечитывая десятки стихотворных книг, я проглатывал все подряд. Это был щедрый и беспорядочный пир.
«Кипарисовый ларец» Анненского сменялся уткинской «Повестью о рыжем Мотэле», «Красная зима» Сосюры – «Весной республики» Ушакова.
«Про это» и «Анна Онегина», «Сестра моя, жизнь» и «Юго-Запад», «Брага» и «Улялаевщина»…
Несколько раз бывал я на поэтических вечерах. Но одно дело – сидеть на галерке, среди публики, все слышать и видеть издали, другое дело – встретиться с авторами знакомых книг с глазу на глаз.
Никогда до этого не приходилось мне общаться с живыми поэтами. Даже с комсомольскими.
И, честно говоря, хоть я и ополчился на неверие дяди Феди, убежденность моя в успехе таяла по мере того, как мы приближались к цели.
Светлов, хотя я знал только одну его крохотную книжку, изданную в библиотечке журнала «Огонек», да несколько стихотворений, опубликованных в периодике, сразу стал для меня открытием.
В огоньковском выпуске, включавшем всего тринадцать вещей, одно за другим следовали стихотворения, принесшие Светлову раннюю и непреходящую славу: «Пирушка», «Гренада», «Рабфаковка», «Клопы», «Призрак»… Достаточно и этого неполного перечисления, чтобы никаких дополнительных объяснений с моей стороны уже не требовалось.
Между прочим, не меньше, чем стихи, покорила меня микроскопическая автобиография, написанная Светловым для сборника, посвященного творчеству комсомольских поэтов.
Вот оно, это жизнеописание, все, от первого до последнего слова:
«Я, Михаил Аркадьевич Светлов, родился в 1903 году, 4/17 июля. Отец – буржуа, мелкий, даже очень мелкий. Он собирал 10 знакомых евреев и создавал «Акционерное общество». Акционерное общество покупало пуд гнилых груш и распродавало его пофунтно. Разница между расходом и приходом шла на мое образование. Учился в высше-начальном училище. В комсомоле работаю с 1919 года. Сейчас – студент 1-го МГУ. Стихи пишу с 1917 года.
Читать дальше