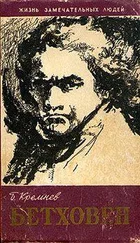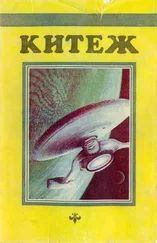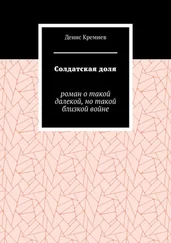Единственное, что Мария Элизабет получила в наследство от предков, – вошедшую в плоть и кровь привычку трудиться. Не глядя на часы и усталость.
Ранним утром, когда за окном еще сереет предрассветная мгла, она, никем не взбуженная, а лишь следуя зову внутреннего голоса, вскакивала с постели. Разом, рывком, не нежась после сна. И, наскоро помолившись богу, принималась за работу. А за полночь, когда все уже спали, ложилась в постель. Чтобы тут же заснуть и спать без снов до утра.
Оттого в доме, где каждый грош был на счету, все блестело. Тут не было и тени запущенности, неряшливости – столь частых спутников бедности. Медная утварь рдела, как новенькая, полы белели, будто их только что обстругали, сюртук мужа отливал синеватой чернотой, словно вороново крыло, и Франц Теодор, как ни старался, не мог найти на сюртуке ни единой пушинки.
И еще одну черту характера унаследовала Мария Элизабет от дедов и прадедов – ровную спокойность, столь свойственную людям труда. Ровная спокойность не покидала ее никогда и ни в чем: ни в работе, ни в отдыхе, ни в радости, ни в горести, ни в отношении к людям. Тихая и ласковая, она вносила в дом умиротворение и покой, столь необходимые семье, особенно той семье, где мало достатка и много детей.
Она была не только тиха, но и покорна. И это было хорошо. Во всяком случае, для нее. Франц Теодор не выносил строптивых. Сам безответно покорный вышестоящим, он требовал безответной покорности нижестоящих. Жену и детей он, по твердому своему разумению, относил именно к этому разряду людей.
Глава семьи является главой лишь тогда, когда он обладает твердой рукою. Семья – то же государство. Только в миниатюре. Чем тверже рука монарха, тем послушнее подданные. Верность – дочь послушания. А она одна – залог благоденствия.
Так считал Франц Теодор Шуберт. И жизнь подтверждала справедливость его суждений. По крайней мере жизнь его собственной семьи. Здесь он был полновластным и твердым владыкой. И здесь царили согласие и лад.
Но то, что происходило вне семьи, тревожило и огорчало Франца Теодора. Жизнь государства развивалась не так, как ему бы хотелось.
Либеральные реформы Иосифа II породили свободомыслие. Хотя император не только не мечтал о свободах, но страшился их. Однако что может дом поделать с грибком, угнездившимся в нем? Дав однажды приют грибку, он невольно становится жертвой его разрушительной силы.
Дерзкие речи, резкие, чуть ли не крамольные призывы все громче звучали в Вене, повергая суховато-сдержанного учителя приходской школы в негодование. Венские якобинцы (хотя, в сущности, эти прекраснодушные, не в меру велеречивые либералы нисколько не походили на своих революционных тезок из Парижа) внушали ему отвращение. Он недоумевал, почему власть одним ударом не расправится с ними. Правда, дальше робкого недоумения он не шел. Власть держал в своих руках император, осуждать же монарха Франц Теодор даже в самых сокровенных мыслях не смел.
Тем сильнее возликовал он, когда после смерти Иосифа II на престол взошел Леопольд II, а следом за ним – Франц П. И хотя именно Иосифу II и его реформам Франц Теодор был обязан всем, что имел, любимым императором его остался на всю жизнь Франц П.
Император Франц обладал той самой твердой рукой, которая так была по нутру Францу Теодору Шуберту. И эту твердую руку император все крепче сжимал в кулак.
Сам до смерти перепуганный французской революцией, он стремился смертями запугать свой народ. Палач Вены, прежде томившийся от нехватки работы, теперь не мог посетовать на безделье. Виселицы, выросшие на площадях столицы, не пустовали. На них вздергивали тех, кого считали якобинцами. Якобинцами же считали всех, кто был не согласен с Францем, отменившим либеральные реформы Иосифа.
В судах разыгрывалась кровавая комедия с неизменно трагической развязкой. Судебная мясорубка непринужденно и деловито перемалывала ворохи бумаг и человеческих судеб. Участь человека целиком зависела от доноса, лжесвидетельства, оговора, самооговора под пыткой. Мясники в шелковых мантиях, восседая в тяжелых дубовых креслах с резными спинками, не рассуждали, а обвиняли, не судили, а засуживали. Под брань и улюлюканье продажных газетных писак.
Над Веной нависло удушье, тяжкое и смрадное. И хотя люди продолжали жить – встречались и расставались, служили и прислуживались, торговали и торговались, сидели в кафе, ходили в театр, танцевали, любили и ненавидели друг друга, – жизнь их лишь внешне напоминала нормальную. Ибо жить – значит верить друг другу, а не бояться один другого. Страх, липкий и гаденький, страх перед тем, что другой знает о тебе то, что ты сам еще о себе не знаешь, и не только знает, но и донесет третьему, а тот лишь ждет случая погубить тебя, ибо в этом видит верное средство сделать карьеру, – завладел людьми, растлил их души, сломил волю, изничтожил совесть.
Читать дальше