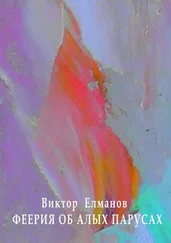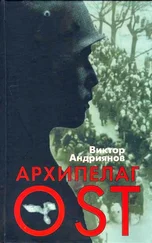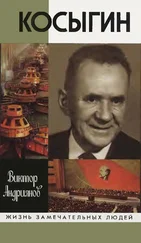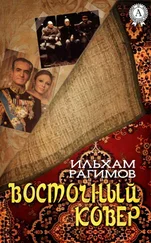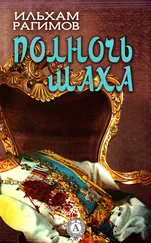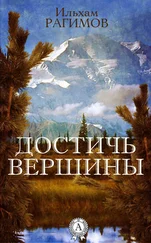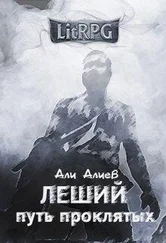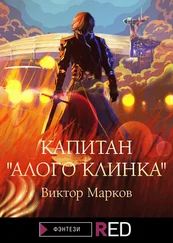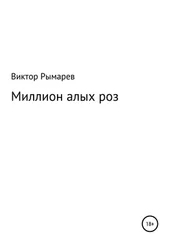Дальше листаем «Журнал регистрации членов ВЛКСМ, снятых с комсомольского учета комитета ВЛКСМ МГИМО. Начато 16 октября 1979 года. Окончено 16 июня 1982 года». 9 марта Алиев Ильгам Гейдар оглы, номер комсомольского билета тот же, социальное положение — учащийся, первичная организация та же, факультет «Международные отношения» снимается с комсомольского учета. Вопросник строг и обширен: «В какую организацию выбывает (указать первичную организацию, район, город, область, край, республику). Основание снятия с учета: по возрасту (указать месяц, год рождения, дату собрания), исключение из ВЛКСМ (указать дату и номер протокола бюро горкома, райкома, комитета комсомола с правами райкома)».
Ответ лаконичен: «Чл(ен) КПСС» (ЦАОПИМ. Ф. 5459. Оп. 1. Д. 47. Л. 44 об. — 45) .
На этом комсомольская биография Ильхама Алиева закончилась. Он стал коммунистом, как его деды, как отец и мама. И по праву гордился этим. Гордился, что стал коммунистом в МГИМО, куда первые наборы пришли из окопов Великой Отечественной войны.
«У нас, фронтовиков, счет жесткий»
31 августа 1943 года Совнарком СССР принял постановление: образовать в составе Московского государственного университета факультет международных отношений. Еще дымились поля под Курском, Орлом, Белгородом, где Красная армия разгромила танковые армады Гитлера. Только на штабных картах красные стрелы наступления советских дивизий протянулись к Днепру, к границе… Но знала страна, верили люди: будет и на нашей улице праздник, поднимут наши воины красный флаг над Берлином. И думали о жизни после войны, вдумчиво, по-хозяйски готовились к ней.
Наркоматы отзывали с фронта инженеров-нефтяников, горняков, ученых-физиков… Открывались новые кафедры, факультеты, институты. В ноябре того же 1943 года начались занятия на факультете международных отношений МГУ, а вскоре факультет преобразовали в институт.
В 1978 году (Ильхам Алиев — второкурсник) в МГИМО тепло и душевно отмечали 35-летие вуза и 30-летие первого выпуска. Многие из тех ребят пришли в аудитории с фронта.
На исходе 1980 года одному из нас, в то время журналисту «Комсомольской правды», выпала командировка в Таллин, столицу Эстонии. На научно-практическую конференцию, которая обсуждала нечто против буржуазной идеологии. Там завязались интереснейшие знакомства с группой московских ученых. Среди них был Николай Андреевич Сидоров, заведующий кафедрой научного коммунизма Московского университета, выпускник МГИМО 1948 года — первого выпуска!
В Москву мы возвращались в одном купе. Помнится до сих пор, как заразительно, царственно смеялся Николай Андреевич. Кто-то из попутчиков шутит: «Твой смех можно продавать радиостудиям».
Под дорожный чай и кое-что покрепче толкуем о том о сем. Постепенно разговор сворачивает к Великой Отечественной, к его разведвзводу. Николай Андреевич учился в знаменитом ИФЛИ (Институт философии и литературы). На фронт ушел добровольно, хотя не брали: зрение минус 6,5.
В довоенной Москве был чемпионом по бегу; на Всесоюзном конкурсе старшеклассников за работу о Чернышевском получил диплом; занимался в стрелковом кружке. В 1937 году избрали комсоргом школы. На X съезде комсомола слушал Косарева, генерального секретаря ЦК ВЛКСМ, вскоре арестованного. В 38-м вызывали в райком, читали протокол допроса. Не верил и тогда. Был убежден: фальсификация.
Мать Сидорова в семь лет сорвала крестик. Дед лупил ее вожжами. Не помогло. Так больше и не надела, как пионерка Багрицкого.
Добровольцев из ИФЛИ направили за Волгу, в школу подготовки переводчиков.
— Кровати — моя и Пашки Когана (известный поэт, автор знаменитой «Бригантины» погиб под Харьковом) — стояли рядом.
Через два месяца — десантные войска. 37-я гвардейская дивизия, 62-я армия. Бросили их под Сталинград. Везли без остановок: «Медсестры по большому и малому ходили в углу вагона, за плащ-палаткой».
— Первая боевая удача — снял немецкого снайпера… — И тут же мостик через два десятка лет.
— В ФРГ, когда выдалась в командировке свободная минута, зашел в тир. Все повыбивал. Хозяйка любопытствует: «Канадиен? Америка?» — «Нет, Москва». Фрау с досады даже плюнула.
После Сталинграда их перебросили под Курск.
— Были на самом западном выступе. Тылы отстали. Грязь. Труднее всего приходилось без соли. А когда дороги установились, вернули все, что задолжали.
Заглянула проводница: «Еще чайку?»
— Нет, — ответил за всех Николай Андреевич. И, помолчав, сказал: — За войну Сталина уважаю. За остальное — нет.
Читать дальше